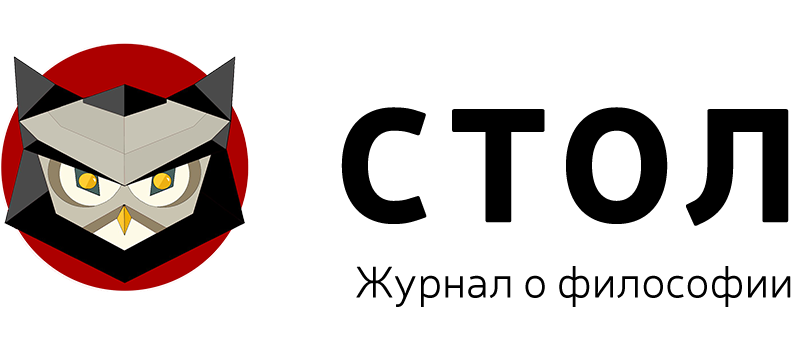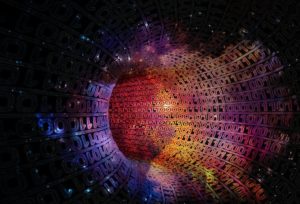В Мининском университете 30 ноября и 1 декабря прошла серия встреч с доктором философских наук, профессором Светловым Романом Викторовичем. Лекторий был посвящен теме «Поиск субъективности в античной философии и культуре». После лекции мы решили задать пару волнующих вопросов профессору.
Интервью взяли студенты первого курса философии Алексей Марков и Сергей Серёгин.
Сергей: Вопросы будут касаться, конечно же, философии античности и её связи с философией техники, а также того, что Вы упоминали сегодня и вчера на лекциях.
Алексей: Я начну. Существует мнение, что философия античности предвосхитила многие актуальные современные физические теории, например, теорию струн, или можно вспомнить атомизм Демокрита. Вы сегодня упомянули Монады. Как Вы считаете, справедливо ли будет называть философию античности во всей совокупности её дискурсов исчерпывающей и что, в целом, «всё уже сказано»?
Роман Викторович: Нет, сказано ещё не всё, безусловно. Насчёт теории струн, я, не думаю, что ее предвосхитила античная философия и античная физика. Другое дело, что какие-то основные направления, в которых развивается европейская мысль, оказались предсказаны в античности. Во-первых, атомизм, безусловно, — это та самая теория, которая в конкурентной борьбе с континуализмом (теорией континуума, которой придерживался Аристотель) одержала победу. И это не простой атомизм. Он оказался связан с математическим естествознанием, которое мы можем отыскать в диалоге «Тимей»1. На основании математического естествознания, например, неоплатоническая модель мира встраивается в физическую. Это мы обычно забываем, воспринимая неоплатоников как спиритуалистов, теологов, теургов и т.д. На самом деле там математика. И это всё неожиданным образом вспомнили в XVI–XVII веке вопреки аристотелизму и эмпиризму. Хоть Платона и ругали учёные и XVII, и XVIII, и XIX века за идеализм, метафизику, тем не менее, они пользовались его методологией. И Платон, и Демокрит, как видите, не так далеко друг от друга оказались.
Я сегодня на лекциях упоминал про эволюционизм, это, собственно, антиплатоновская позиция, но она тоже возникла в античности. Демокрит, Эпикур — их в известной степени можно назвать эволюционистами. С этой точки зрения, мне кажется, какие-то фундаментально важные вещи для современной науки оказались проговорены именно в античности. Первым про то, что математика объясняет всё, сказал нам Пифагор (или пифагорейцы), что «числу все вещи подобны» — этот тезис приписывают ему. А это означает, что Пифагор открыл то, что математика — идеальный способ моделирования всего, причём вообще всего. Мы с вами не можем не согласиться, что живём в эпоху, когда математика стала идеальным инструментом воспроизведения реальности. Теории струн, наверно, не было в античности. Если Вы знаете кого-то, кто обнаружил теорию струн в представлениях античных философов, — скажите мне, с удовольствием почитаю. Но без математики, без математического естествознания не было бы теории струн.
Сергей: Как Вы вспоминали вчера на лекции, современная философия «убила» субъекта, и сегодня место человека заменили вещи-объекты, например, этой проблематикой занимается объектно-ориентированная онтология. Так, Грэм Харман утверждает, я не дословно приведу его слова, что все вещи существуют и существуют по-разному, т.е. не имеют единого основания своего существования. В античности же мы видим, начиная от досократиков, попытку отыскать «архэ». Могли ли греки помыслить множественность основания для вещей? Кажется, нет, но почему?
Роман Викторович: Ну, скажем так. Греческая философия использует в том числе те алгоритмы, про которые я вам говорил на лекции. Когда Сократ стал спрашивать не «какое есть», а «что есть», тогда античная философия пошла по пути универсализации и обобщения. Этот путь, хотим мы того или нет, стал базой и основой успешности и эффективности европейской цивилизации. Поэтому посмотрим ещё, чем обернётся для европейской цивилизации нынешний отказ от единой онтологии.
Почему ход, совершенный платоновским Сократом, был необходим? Такой подход позволяет создавать единую концепцию, универсальный взгляд на мир. Полифоничность мира — представление, которое может объяснить многие вещи, но делающее затруднительным обсуждение закономерностей, которые универсально объясняли бы сущее на уровне физики, химии, биологии, социальной жизни, культуры.
Я должен некоторые уточнения всё-таки внести: у греков, конечно же, были направления, которые говорили о многообразии и многоразличии сущего. На мой взгляд, Эпикур, с его концепцией «множества миров», вообще похож на некоторые современные инфляционные концепции космологии. Вы, наверное, знаете, что, согласно одной из концепций, миры, составляющие мультивселенную2, существуют не на разных онтологических уровнях, а как бы наряду друг с другом: космос беспределен и в нем есть миры, в которых я сижу в той же аудитории и рассказываю вам то же самое — в сущности об это говорили эпикурейцы. И второй момент, по поводу различия — как минимум одна античная школа утверждала, что нет ни одной вещи, которая бы повторяла другую, — это стоики. Недаром Жиль Делёз с них начинает историю философии различия вопреки истории философии тождества. Нет ни одной повторяющейся вещи — это идея принадлежит стоикам: чёрные кошки разные, падающие капли дождя разные, близнецов можно друг от друга отличить. Присмотревшись, нет ни одной повторяющейся вещи! Поэтому античность тоже была разнообразной.
Алексей: Так, третий вопрос. В концепции Плотина у нас у всех одна душа. Равнозначно ли это понятию «коллективного субъекта»? Есть ли вообще в античной философии место коллективному субъекту?
Роман Викторович: Так, можно я переспрошу, извините. Что Вы подразумевайте под коллективным субъектом?
Алексей: Внесу уточнение. Получается, если взять Платона, например, или Аристотеля: вот у меня моя душа, она — одна и я своими действиями или мыслями несу свою субъектность, субъективность в этот мир. А у Плотина это напоминает некоторое «коллективное бессознательное» Фрейда, Юнга…
Роман Викторович: Так… Коллективное бессознательное мне кажется ближе, чем коллективный субъект, потому что субъективность всё равно сохраняется, она возникает, когда частная душа соединяется с частным телом. Вот эта самая субъективность, которая называется «именем». Она имеет опыт жизни, который передается дальше. Конечно, у Плотина это всецелая душа как таковая, и она, в и известной степени, представляет собой коллективное бессознательное, правда, мыслимое не так, как мыслится оно у Фрейда и даже у Юнга. Потому как «коллективное бессознательное», если эти слова применить для описания Плотина, — они характеризуют состояние, когда мы не осознали свою разумную природу. Когда же это происходит, когда перед нами открывается мировой промысел, тогда мы, собственно, как эта душа и действуем. Понимайте? Она бессознательна только до момента осознания; от бессознательного не избавиться ни по Фрейду, ни по Юнгу, а здесь — возможно. Мы все стали умом, всё нам стало понятно.
Сергей: Сегодня существует множество взглядов на взаимосвязь человека и техники. Некоторые мыслители считают, что техника является продолжением или подражанием тела человека, например, Эрнст Капп или Маршал Маклюен. Как мыслилась связь человека и техники в античности?
Роман Викторович: Техника, заметьте, — это слово из греческого языка. Мы с вами говорим: техничный человек, техничный футболист, техничный хоккеист, техничный преподаватель, который может неожиданно подать какой-то предмет, техничный студент, который не теряется ни в какой ситуации и придумывает, что ответить, даже если ничего не знает. Это искусство — искусство художника и так далее. Τέχνη (тэхнэ) — это искусство-навык. И возникает вопрос, насколько связана техника и техническое с человеком? Должен сказать, что античность знала технические приспособления, которые нам кажутся сейчас сделанными невероятно искусно. Взять хотя бы находку — симуляцию движения небесных сфер, счётчик, найденный археологами в начале прошлого века, — антикитерский механизм. Его реконструкция показала, что для геоцентрической модели мира это совершенно точная машинка, которая позволяет, через прокручивание её определённым образом, вычислять положение небесных светил на небе со всеми их странными движениями. Механизм очень сложный, это не цифровой, а аналоговый механизм, но, по сути, очень сложный аналоговый компьютер. Такого рода технические объекты у греков были. У них были легенды о механизмах (автоматонах), которые приводятся в движение чем-то похожим на сжатое масло или расплавленный свинец — например, медный великан Талос. Или самодвижущиеся статуи Дедала. Сейчас трудно сказать, что в рассказах древних авторов об «автоматонах» легенда, а что — правда. Возможно, греки были в этом куда более изощрены, чем мы себе представляем. Можно и вспомнить открытие римлян, которое позволило им создавать акведуки, подающие воду на несколько десятков километров без какой-либо ударной волны, — во многом это стало основой римского быта и экономики. Уже само по себе данное открытие показывает, что они были совсем не примитивными товарищами, а техника у них использовалась не только для строительства храмов и изготовления модных уздечек для лошадей.
Сейчас актуальной становится история о том, что мы порождаем техническое, а техническое может восстать против нас. Это восстание можно понимать как естественный продукт эволюции — если человечество создает некоего рода «машинную цивилизацию». Либо же восстание машин можно представить, понять в марксистском духе: когда машины осознают, что мы их эксплуатируем, то естественно против отчуждения собственного труда будут возражать и появятся «Терминаторы» и прочие товарищи. То есть мы создаем нечто, что в будущем восстанет против создателя. Такой библейский миф богоборчества сегодня обсуждается совсем не религиозными мыслителями. Здесь возникает вопрос: как поставить для ИИ этические «заглушки», которые не позволят это сделать? Если этот получится, тогда продолжение человека становится чем-то не человеческим, а, возможно, даже сверхчеловеческим. Популярный философ Игорь Михайлович Чубаров почти прямо говорит о том, что искусственный интеллект — новый Спаситель, понимаемый, правда, не в теистическом духе. Но тем не менее мы создаем некое трансцендентное человеку начало, которое будет решать наши проблемы — такой вот утопический подход современный. Для греков такого рода проблем не было. У них боги или маги-теурги могли оживлять статуи, но представление о том, что статуи сами по себе восстанут и будут убивать людей, — это совершенно нововременная фантастика.
Аристотель говорит, что все сущее делится на сущее по природе и по искусству — и вот здесь самое важное. Существующему по искусству предшествует замысел в голове демиурга, который воплощается в материале определённым образом. И с этой точки зрения техника выглядит двояко: с одной стороны, это продолжение нашей деятельности (мы сегодня — демиурги, которые создают мир вокруг себя), потому что это мы ее так замыслили; с другой стороны, мы не можем воплотить то, что принципиально невоплотимо. Поэтому технэ — это еще и некоторая предрасположенность к воплощению в материале. Это очевидно в переводе gestell Хайдегерра как «постав»: когда архангелогородский мужик подходил к бревну, он уже видел в нем схему-распил, благодаря которому можно сделать из этого бревна лодку. И в природе, и в материи постав также содержится. Благодаря ему, собственно, техника и становится возможной — то есть это и человеческая часть, и природная. Другое дело, что человека и природу в античности не разводили на крайности, как это началось это с XVII века.
Алексей: Продолжаем дальше. Как мы знаем, традиция киников возникла на фоне политического кризиса полиса и Пелопонесской войны. Сегодня мы также наблюдаем кризис, но уже мирового характера. Могут ли активная глобализация и урбанизация возродить актуальность идеи киников?
Роман Викторович: Во-первых, нечто вроде киников регулярно возрождается. Можно вспомнить христиан-киников, которые в IV-V веках были популярны. Считается, что юродство тоже как-то генетически связано с киниками и их «хриями». Некоего рода антиурбанистические, антиглобалистические движения против «общества потребления» могут принимать форму не моральных проповедей, в духе известной книги «Иметь или быть», а в практической деятельности. Например, «дауншифтинг», который популярен был лет десять назад. Дауншифтеры — это люди, которые отказываются от стяжательства, от форм урбанистической жизни, и куда-то уезжают, и там живут, используя всевозможные гаджеты, безусловно, как же без них. У меня были знакомые, которые в Таиланде жили, талантливые СММ-щики, они там жили некой «хипповской» жизнью в смысле простоты. Если понимать кинизм как бунт против урбанизма и урбанистического глобализма (греческие киники бунтуют против полиса как города и излишеств всего этого существования), то таких примеров можно найти достаточно много, вплоть до более современных вариантов концепции переоценки всех ценностей. Тогда и Ницше был киник, и хиппи, и панки. Возможен ли новый кинизм сейчас? В таком прямом виде как у киников вряд ли будет возможен, но в каких-то формах протестных вещей можно будет проводить аналогии.
Сергей: Как Вы считаете, какова роль, задача, миссия философа в XXI веке?
Роман Викторович: Она не изменилась. Осталась той же, какой была и раньше. Философ–душепопечитель (эта функция вначале была заимствована у философии церковью; при этом философия средневековая тоже «душепопечительская»). Терапевт, помните, лечит души? А в XIX веке это все присвоила психология, практическая психология, психотерапия. Современная психология, собственно, создает комфортного для общества человека. Задача же философии осталась та же самая — видеть проблемы, не бояться их, открывать проблемы перед другими, в том числе и в других открывать проблемы по отношению их к самим себе. Открывать и решать эти проблемы, но не через зону комфорта, а через зону строительства будущего. Философ всегда занимался этими вещами в отношении людей, потому что это социальная задача философии. А любая проблематизация и проект строительства будущего имеют отношение к онтологии, к тому, как всё в мире устроено. Здесь, сами понимаете, много может быть проектов: от универсальной до множественной онтологии, объектно-ориентированных онтологий и т.д., но это все равно всегда какой-то проект. И еще важный момент: я эти слова повторял неоднократно: Карл Маркс в «Манифесте коммунистической партии» в своё время сказал: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его». Философия всегда изменяла мир. Другое дело, что не ждите изменений прямо здесь и сейчас. То, что Вы сказали, скажется спустя десятилетия, но скажется обязательно!
Сергей: Спасибо большое! Я думаю, на этом наше интервью можно закончить!
Иллюстрация: Анастасия Ковецкая.