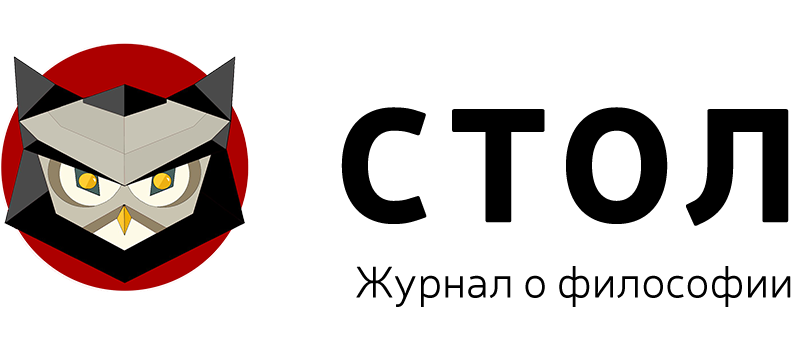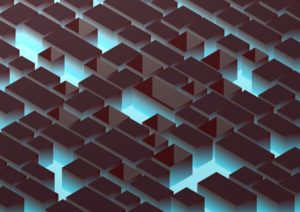Слышим ли мы тишину?
На первый взгляд такая постановка вопроса кажется странной. Говорят, что тишина — отсутствие каких-либо звуков, а слышать, соответственно, возможно лишь то, что даётся слуху слушающего. Внимая речи говорящего, крику плачущего, смеху радующегося, мы в исступлении тонем в вылившемся на нас. Когда же всякая речь затихает, освобождая от самой себя слух слушающего, тишина стелется на простор непотаённости ускользающим от нашей мысли ковром.
Где и как даётся гладь тиши? Там, где предметы в непоколебимой покорности поставляются перед нами; там, где слово уносится суетным ветром от своего истока. Болтуны, измызгавшие свет несокрытости, щёлкают шелухой семян, тщетно расточая искры божественного присутствия. Но лишь в редкие мгновения мы слышим крик вещей, собирающих мир как мир в повиновении самому себе; ныне лишь иногда вещь организует пространство, изливая сладостный свет своего присутствия на смертных.
О чём мы говорим? О тишине. Что она есть? Отсутствие звуков. Она лишь их вместилище, пустующая ёмкость, что жаждет принять принимаемое. Тишина — никакая не вещь, не сущее, а сама зияющая пустота, поэтому и употреблять «есть» относительно сего неуместно.
Но что есть? Есть человек — особое и особенное сущее, осуществляющееся в открытии слуха зову Бытия. Карабкаясь на вершину горного хребта, дабы вперить свой взор к пляскам небожителей, смертный улавливает молнии и, будто золото, уносит добытое в родимый дом, становясь одержимым этим выкрадывающим мир сиянием.
………………………………………………………
Но грозы сгинули: подъём на высь лишь славит тишь; остался след игры богов, чем смертный бы себя уважить мог. Не каждый смертный, но божественный вынести с горы сокровище в свой отчий дом решится; лишь тот, чей слух открыт молчанию тиши, даёт вещице сбыться.
………………………………………………………
Отдавая право направлять мысль случайному наитию, всмотримся в «молчание». Что это и чем отличается от тишины? Ответ оставляет в своём одноименном рассказе Леонид Андреев: «Эта была не тишина, потому что тишина — лишь отсутствие звуков, а это было молчание, когда те, кто молчит, казалось, могли бы говорить, но не хотят». Но кто мог бы говорить, но не хочет? Кто или что так тщательно утаивает от нас свой сказ? Вероятно, вещи. Вещи, сообразным себе образом, есть. Вещи могут высказать себя, но не хотят. Вещь требует слово, дабы завести свою песнь, под плясками которой сказ себя скажет.
Доселе за словом смертные поднимались к богам, что низвергали молнии в сердца. Теперь же грозы сгинули, оставив серую тишь небесной тверди для мнимых услад и празднеств.
«Не каждый смертный, но божественный…», — но почему божественный смертный? Что значит быть таковым? Это значит: открыться для намёков ушедших богов, соотнеся своё присутствие с их от-сутствием, в котором боги есть. Лишь божественный в тиши уловит молчание, услышит требование, обращенное к нему. Как требование является? Как отказ.
Отказ приносит боль, потому «Не каждый, но божественный…» решится вынести этот зов обращённости к себе.
Тишина приоткрывается как молчание, что своим существом выводит к отказу. Но отказ не есть тишь, которая лишь вбирающая бездна для каждого сказа, растворяющая в своей глубине. Отказ есть сказ, казание, указывающее на свой от-каз. Отказать — значит казать от-каз сказа. «Не каждый, но божественный…» вынесет боль отказа.
Что же это за боль? Мы, уходя от «людей», погружаемся в «молчание»: вещи от-казывают нам, уже не вы-с-казывая мир. Боль приоткрывается как медленно, но настойчиво гнетущая тревога. Пытаться в полутьме найти то, что тревожит — тщетно. Истерически цепляясь взглядом за каждую вещь, мы не находим объект тревоги.
Вот стул. У него четыре ножки. Но он и с тремя, и с двумя, и с одной ножкой, да и вовсе без них — был бы стулом, но изломанным. Стул как стул, он не может тревожить. Вот окно. На окне ручка, в раму окна поставлено стекло, но разбей стекло, оторви ручку, сломай раму — окно будет окном, но изломанным. Оно не может тревожить. Вот уличный фонарь. В метель он открывает глазу красоту падающего снега. Он высвечивает сокрытое в темноте. Но если бы он не светил, то был бы фонарём? Если мы его опрокинем на землю, разломаем, разделим на части, он будет фонарём? Будет, но изломанным. Он не может тревожить.
Перебрав так каждую вещь, мы приходим к выводу, что нас ничего не тревожит, поэтому можно с лёгкостью на душе погрузиться в сон.
Или нет?..
Но что, если в просторе непотаённого всё же медленно, но верно нашёптывает что-то свой с-каз присутствием? И тревога лишь усиливается, преобразуясь в испуг. Страшно в ночи услышать треск посуды, а наутро не найти и осколка; страшно то, что скрывает пред-стоящая дверь до открытия её; страшно то, что проскальзывающее пятно на периферии зрения вдруг остановится и настойчиво потребует обращения к себе. Испуг медленно тлеет в груди, а присутствие от-казывающего, будто ветер, разжигает скрывающийся огонь, приближая к становлению прахом.
Но каждый раз за дверью ничего тревожащего не является, а пятно на периферии ловко расплывается. Получается, что нет ничего тревожащего, можно в спокойствии ложиться спать.
Или нет?..
Вероятно, нет конкретно той вещи, что тревожит. Но что тогда? Тревожит мир. Тревожит, ибо не вы-с-казывается вещами. Мышление таково, что мыслит объектно, а уловить мирность мира в объективированном способе его существования невозможно. Потому и с-казывается он через молчание в от-казе. С-казание — значит вы-с-казать себя самим собой. Мир вы-с-казывает сам себя своим присутствием и требует для себя слово.
Божественные в тяготе присутствия мира падают в повинность ему, ибо он с-казывает в от-казе самоё себя. С-каз мира осуществляется вещами. Вещи, когда они есть как они сами, запевают песнь на музыку с-каза, струящегося из глубин потаённости. Когда же вещи затихают в молчании, исток из потаённости не перестаёт течь, но становится от-казом.
То же наглядно и в любви: как только «любимый» уходит в от-сутствие, весь мир изливается от-казом; ибо «любимый» есть та вещь, которая собирает присутствие мирности мира в себе, озаряя божественным светом простор непотаённости. Потому и уход «любимого» ощущается как «потеря мира», его от-каз, требующий слово.
Но сущностное слово разыскивают божественные, дабы вы-нести его для нас. Нам же, обыкновенным смертным, стоит вытерпеть, вы-нести тяжесть немотствования. Зачем? Чтобы сущностное слово, добытое божественными, не затерялось среди пустых криков и возгласов.
И все слова выше — лишь дымка от тлеющего испуга, что растворится в просторе, оставив изъедающий запах гари.
Иллюстрация: Анастасия Ковецкая.