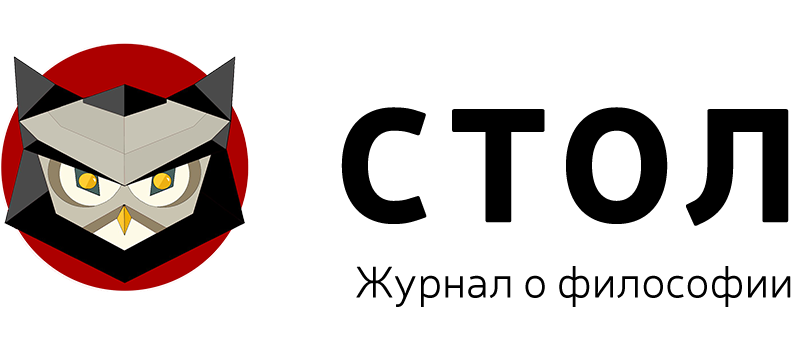После «Ужасов философии» Юджина Такера мы обрели точку, из которой можем окинуть взглядом всё, что происходит с нами, за нами, над нами, до и после нас. И взгляд, набрасываемый на происходящее, будет условно «наш», поскольку нас не будет.
«Мир-без-нас» Такера – мир не-человеческий и помышлять его нужно бес-человечно. Парадокс и «ужас» здесь заключается в том, что помышление, которое мы проводим, проводится нами, т.е. это помышление человеческое. Притом в «мире-без-нас» нас быть совсем не должно, даже в роли стороннего зрителя. Поскольку в таком случае, мы становимся min-соучастниками, max-совершителями.
Взглядом своим на долю явлений,
С точки фотонного происшествия,
Узурпирую свободу случа(я)ния.

А что насчёт водорослей, медуз, тихоходок, газовых конфорок, роботов, Волан-де-Морта? Было бы эгоистично, хотя и очень по-человечески, думать, что с нашим отсутствием, не будет их. Иначе каждый раз, когда мы отлучаемся из города, город бы стирался с карт. Может так оно и происходит, конечно, и каждый раз, когда мы делаем шаг, незаметные нам картографы стирают все следы, сжигают мосты, так сказать.
Теперь мы словно подошли к стеклу, через которое, точнее — на которое, стоит посмотреть и зациклить свое вопрошание, чтобы разомкнуть видение.
Философия, вышедшая к своему пределу, «ужаснувшаяся», максимально близко приближается к «миру-без-нас». Последний шаг, в котором «мир-без-нас» склеивается с подошвами башмаков к-пределу-идущего, – переход от разума к воображению, к сверхестественному ужасу. И первые, кого мы должны встретить на этом следопутье, в лучших традициях жанра – монстры.
Кто такие монстры, где их искать, и кто отнял у них свободу?
Монстры тесно обвязаны с человеком [не их вина], и эта связь вызывает ряд вопросов:
▪ кто и что такое монстры, как они связаны с человеком?
▪ кто или что делает монстра монстром?
▪ кто может быть монстром?
▪ каковы монстры, как они есть?

Человек всегда жил в эпоху монстрологического изобилия. Другое дело, что долгое (вы)ведение философии к пределу, лишь сделало видимым эту эпоху. Более того, монстрологическая эпоха не исчисляется временем человеческого измерения. Эта эпоха началась, длится и продолжится. В большинстве случаев, когда мы говорим о монстрах, мы говорим о чём-то страшном, если не об ужасающем, вызывающим омерзение, отвращение. И за аффективным мы не видим монстра, каков он есть. Точнее – мы обрезаем себе траекторию приближения к нему, отстраняясь от видения.
Пытаясь нащупать монстра (потому что только наощупь мы можем к нему приблизиться), хватаемся за латинские корни.
▪ monstrum – знамение, чудо, диво, чудовище;
▪ образуется от monere – напоминать, обращать внимание, предостерегать.
Этимологически русский монстр – это:
▪ животное или человек с врожденными недостатками, уродствами;
▪ в переносном значении: человек с дурными чертами характера, странностями в поведении и т.д и т.п;
▪ в переносном значении: поражающее своими свойствами, уродством, величиной. Синонимично с: чудовище, урод, зверь, изверг.
Этимологический монстр назван, т.е. человечен. И здесь мы дошли до возможности верчения в порочном круге, постоянного выискивания истока, и, вероятно, у читателя назрел вопрос:
«Как может быть монстр без человека, т.е. без языка, если он назван?», — без названия.

Презумпции монструозности и человечности.
Схваченное «знаменательное» значение монстра включает в себя то, что современное обрамление во многом утратило – заботу.
Монстр – это заботливо.
С одной точки, он напоминает о смертности человеческого, поскольку был до и останется после него. С другой точки, «чудо» становится чудовищем, рождая новые и новые «чуда» (подобное у корня и корневища). Монстр обнимает сетью «чуд» человеческое, распространяя на них свою «знаменательную» заботу. И это смертельные объятия, подобные объятиям савана, в которых оказываются тела после смерти.
Memento monstrum!
В контексте данных коннотаций монстр – оценка, которую человек привык набрасывать на те или иные фигуры, факты, события. Этимологические монстры – это человеческий конструкт (одно из деревьев «чудовищного» корневища). Это – презумпция человечности [ты – человек до тех пор, пока не выявится обратное], влекущая за собой полное закабаление монструозного человеческим. И мне видится смысл снять оковы с монструозного.
Продолжим продолжать нащупывать монстра.
Монстром [min — в рассмотренных коннотациях] может стать кто и что угодно. Но монстра производит не(-)человек, а монструозное. Именно поэтому монстр был до, есть сейчас и будет после, держа за руку человеческое, сверх-, мета-, пост-, не- и проч. Сами монстры прекрасно обойдутся без человека; «мир-без-нас» для них комфортнее. Презумпция монструозного [ты – монстр до тех пор, пока не выявится обратное]. А выявится это с появлением человеческого. Точнее — языка.

Примером монстра, который неплохо уживается с человеком служит плесень [грибы]. Плесень совершенно не волнует человек. Более того, это неволнение тянется от причинения бытовых неудобств в ванной до спокойной жизни min — на Марсе.
Теперь можно проводить демаркационные лучи между человеком и монстром.
Первая точка. Главным различием является то, что монстр, купаясь в монструозном, погружен в фантастическое измерение. Экстаз фантастического, преодолевает рационализм, здравый смысл, детерминистскую ограниченность, манифестирует сверхестественное, еще ближе подводя нас к «ужасанию». Что может быть ужаснее сверхъестественного для рационального? Монстр с легкостью способен опрокинуть тяжесть жизни-в-оппозиции (т.е. антонимичном противопоставлении) вовнутрь нее, уничтожить ее и освободиться, запустив переход человеческого от размышления к вымышлению.
Вторая точка. Язык – родило человеческого. В «мире-без-нас» отсутствует язык – то, с чего, по сути, начинается измерение человеческое. «Мир-без-нас» – тот самый бассейн фантастического, в котором плещется монструозное, высвобождающее сверхестественное из-под гнёта здравого смысла. Здесь нет места языку человеческому, потому что нет человека.
Теперь презумпция монструозного, которую мы не ставим в противовес презумпции человеческого, чтобы не заплутать в порочном кругу, работает нон-стоп. В бассейне фантастического монстрам уютно и хорошо. И не важно, кем они будут в зависимости от конкретного случая – плесенью или Волан-де-Мортом, с человеком или без него.

Ill.: Beksinski Zdzislaw