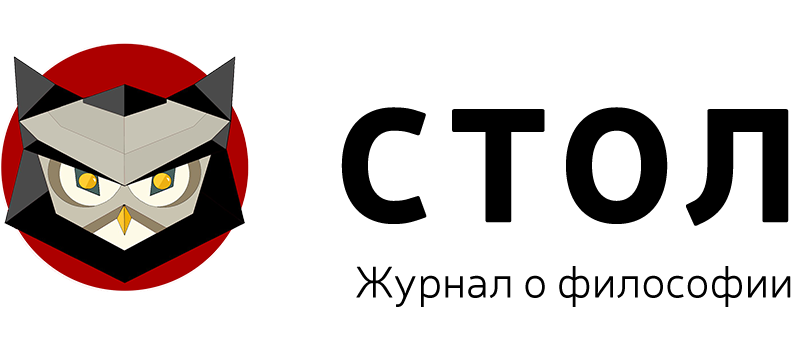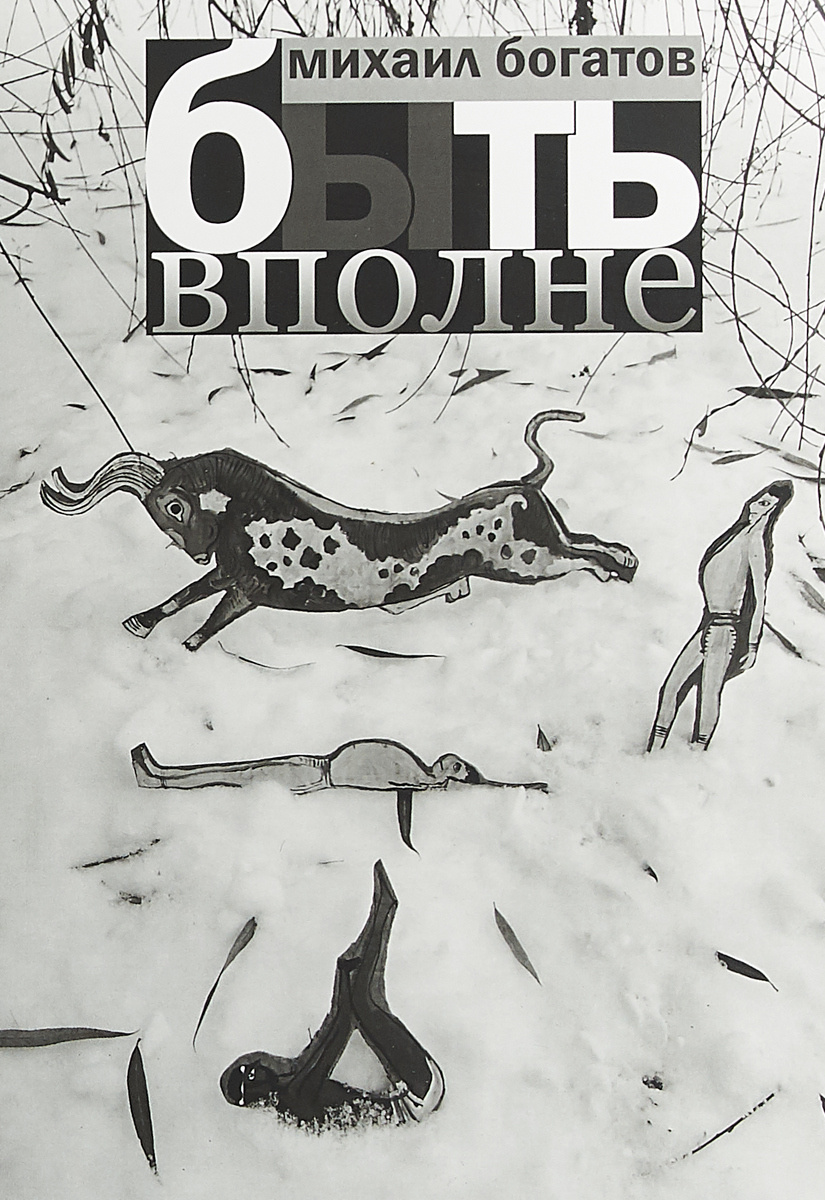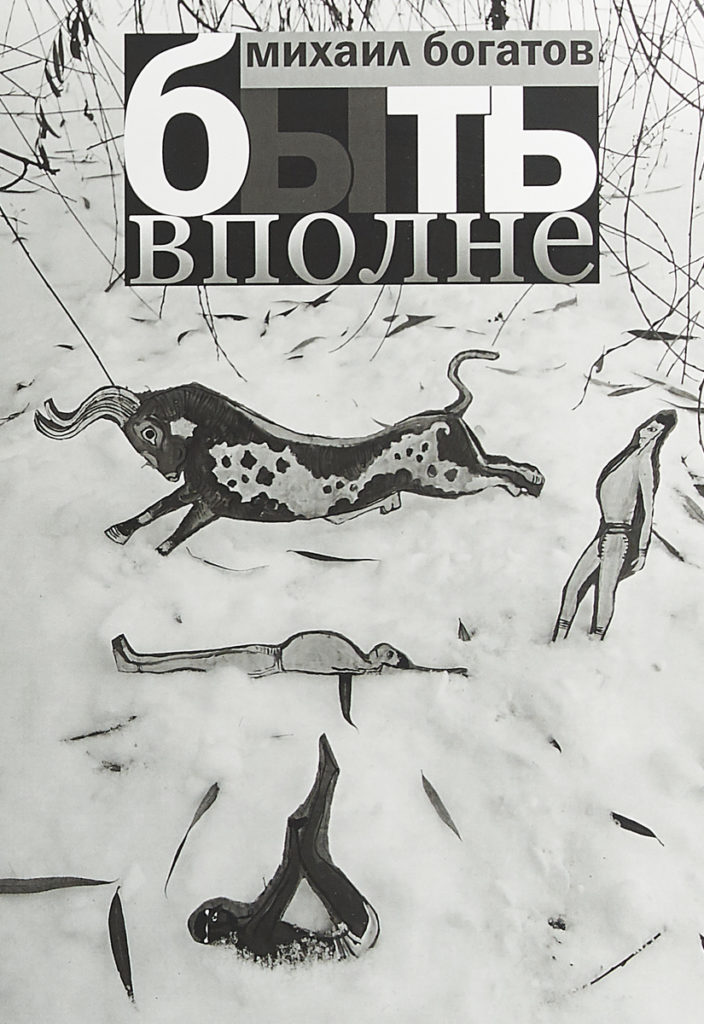Михаил Богатов – саратовский философ, писатель и поэт. Доктор философских наук, доцент кафедры теоретической и социальной философии философского факультета Саратовского государственного университета. Автор «Манифеста онтологии» (2007), «Искусства бытия» (2008). Главный инициатор ежегодного поэтического фестиваля «Центр Весны» в Саратове.
В интервью мы поговорили о его новом романе «Быть вполне», вышедшем в издательстве «Скименъ» в 2019 году, о трудностях и особенностях писательского творчества, о взаимоотношении философии и политики, а также о значении Владимира Бибихина для современной философии.
Сначала поговорим о вашем новом романе «Быть вполне». Как родился (складывался) замысел?
Это довольно странная история. Обычно я пишу романы подолгу, где-то по три-четыре года. Не был исключением и мой предыдущий роман, первоначально называвшийся «Отче наш», но по настоянию издателя переименованный в «Имя Твоё». Как это и бывает с некоторыми писателями, после того, как ты расстаёшься с таким долгостроем и ставишь точку, то происходят две странные вещи: во-первых, роман для тебя фактически умирает (ты больше не можешь думать в эту сторону, он больше не «пишется» где-то сам собой) и, во-вторых, наступает чувство дичайшего опустошения. Конечно, второе вытекает из первого. Тебе кажется, что ты больше ни на что не способен – и чем больше ты доволен завершённой работой, тем сильнее ощущение собственной ничтожности. А в случае «Отче наш» я был чрезвычайно доволен – роман требовал жуткого напряжения памяти, эрудиции, настроения под свой собственный, чрезмерно своеобразный стиль. Мне ничего не оставалось, как просто ждать – пока начнёт писаться что-то другое. На волне инерции другое действительно началось: это был текст «Лики», некоего (предположительно) другого большого романа, который я, спустя полтора года работы, бросил. Или, скажем мягче: отложил в долгий-долгий ящик, по форме больше напоминающий гроб. «Лика» не была на тот момент созревшим произведением. После этого понимания на меня напала ещё более жуткая апатия, из которой чуть помогла выбраться поэма «Арбат». Но я ждал и ждал большого романа, который займёт меня на несколько лет и подарит возможность погрузиться в радостное освоение открываемого им мира. Ждал год, два, три. Ничего. Я стал подозревать себя в исписанности и исчерпанности, пока в какой-то чудесный миг не понял, что это вот ожидание, эта апатия, это ощущение исписанности – это и есть новый замысел. Как вы понимаете, он был чрезвычайно хитро спрятан и пришёл в неузнанном виде, прямо из самой грустной повседневности писателя, который ничего не пишет, не может написать. Оказалось, что за этим невзрачным приглашением раскрылся чудесный мир литературы, из которого можно взглянуть на авторские будни. По эффекту это сродни тому, как барон Мюнхгаузен вытаскивал себя за косичку из трясины.
Кто главный герой романа – «Быть вполне» или Михаил Богатов?
Трудно сказать – поначалу кажется, что описывается моя жизнь, но это иллюзия, поскольку в самом этом описании со стороны главного героя прячутся несоответствия и противоречия, которые под силу открыть читателю, склонному к «медленному», вдумчивому чтению. Когда роман начинает собираться под внимательным читающим взглядом, становится понятно, что обо мне тут речи нет и не было с самого начала. Хотя, признаться, я сам изначально был введён в некоторое замешательство: настолько напористым оказался рассказчик – именно герой, не я.
В романе довольно часто высказывается мысль, что для читателя по-настоящему значимым оказывается проживание чтения, а не то, что он вычитывает. Что по-настоящему значимо для вас как автора?
Я бы уточнил: не «вычитывает», а «вчитывает». Особенно при быстром, невнимательном чтении, которому нас обучают быстрые, невнимательно написанные тексты, вроде тех, что постоянно мелькают в нашей френдленте в соцсетях, ни в коем случае не претендующие на внимание: ведь они помещаются между разными другими записями, картинками, музыкой, видео. Мы интуитивно хотим смахнуть их пальцем вверх, сказав себе: «ага, понятно». Вот это-то «понятно» чрезвычайно вредит восприятию трудных вещей, которые готовы в ответ отблагодарить лишь благодарных читателей. Самая напряжённая авторская работа для меня – это даже не угадывание, но усмотрение той композиции произведения, которая нарождается. Именно на её вызревание и уходит столько времени, поскольку, как вы понимаете, сам непосредственный процесс письма – дело довольно быстрое и нехитрое. Вот поэтому для меня и важно, чтобы читатель следил за этой композицией, как она появляется – именно ради неё, а не ради сюжета (каким бы он ни был изощрённым или узнаваемым) всё пишется.
В мире литературных произведений есть иерархия?
Да, безусловно. Как и во всём сущем. Мы же легко угадаем – умеет ли человек играть на гитаре или же нет, настроена она или нет. Трудно представить, чтобы кто-то, слушая откровенную фальшь, воспринимал её за новое направление в музыке. Литература тут ничем не отличается от музыки, только, пожалуй, из-за иллюзии доступности языка и речи каждому из нас отличить хорошее от лучшего гораздо труднее. Отчасти, несколько фантастически и упрощённо, в «Быть вполне» эта иерархия прописывается как мир главного героя.
Кто из живых и мёртвых писателей повлиял на ваше письмо в большей мере?
Если говорить о прозе, то это писатели стиля, начиная с Гоголя и Флобера, Толстого и Пруста. Джойса читал много, и на английском, и на русском, но мне он кажется более инженером изощрённых механизмов, чем родителем живых вещей (исключение здесь составляют его ранние «Дублинцы» и некоторые части «Улисса»). Весёлым особняком для меня стоит Кафка (который действительно, несмотря на довольно невесёлую жизнь, кажется мне очень радостным автором; о чём бы он ни писал, он в этот миг улыбается и счастлив – именно от акта письма). Пограничную позицию меж этих двух крайностей занимает Владимир Набоков. Особенно люблю Беккета – во все периоды его творчества. Если брать ближе к нам, то из отечественных – Саша Соколов, а из европейских – Жозе Сарамаго (поскольку я не владею португальским, то доверяюсь прекрасным переводам Александра Богдановского). Радостью чтения меня также одаряют Анатолий Рясов (открывший для меня, кстати, чудесного Владимира Казакова) и Леонид Немцев, замечательный писатель и неизменный собеседник в диалоге о Набокове.
В романе так или иначе поднимается тема нацистской идеологии. Это повод поговорить непосредственно о философии. Например, о Мартине Хайдеггере. Какова ваша позиция в «споре о Хайдеггере», если она есть?
Мне очень понравился этот ваш переход: «тема нацистской идеологии – повод поговорить непосредственно о философии». Как раз против такой связки – в том числе в споре о Хайдеггере (в целом) и его «Чёрных тетрадях» (в частности) я и выступаю. Как-то на «Гефтере» я достаточно высказался и по поводу «Чёрных тетрадей», и по поводу самого социального заказа на это обсуждение. Что касается нацистской идеологии в романе, то там может иметься в виду только несчастный (во всех смыслах) ефрейтор Шиллер: ни в жизни, ни в чтении, ни в письме, ни в личной жизни так и не нашедший себя. Однако, перипетия его судьбы, последнего дня его жизни позволит внимательному читателю собрать воедино весь роман «Быть вполне», в особенности – его финал. Несколько читателей, которые уже ознакомились с текстом, этого не увидели, что не может меня не огорчать. Но здесь я уже мало что могу поделать – как говорится, когда рождается текст, автор умирает.
Что «Чёрные тетради» говорят о Хайдеггере как о мыслителе?
Что он по-настоящему мыслил. Во-первых, перед нами его творческая мастерская. Он пробует одно, ищет, ошибается, пробует другое. Настоящая мысль рискует – и «Чёрные тетради» это демонстрируют в полной мере. Говорить, хорошо это или плохо – что настоящая мысль рискует – так же глупо, как сетовать на то, что мы дышим лёгкими, а не, например, жабрами. Увы, так оно и есть.
Возможна ли философия без идеологических предпосылок?
Если под идеологией понимать политические мнения в зауженном современном смысле слова «политика» – то да, философия может быть только без этих предпосылок (прости, Сартр). Более того, она должна тщательно от них избавляться, вновь и вновь подвергая их редукции. Если же под идеологией понимать политическую захваченность в античном, именно аристотелевском (а не платоновском) смысле слова, который в ХХ веке актуализировала Ханна Арендт, то нет, философия без так понятых идеологических предпосылок невозможна. Как говорил Аристотель, полис предшествует человеку.
Одним из главных хайдеггерианцев в России был Владимир Вениаминович Бибихин. В ноябре 2019 года в Бежецке состоялись первые Бибихинские чтения, в которых вы также принимали участие. Какие стороны его творчества вызывают сейчас интерес?
Я выступаю резко против того, чтобы полагать Бибихина хайдеггерианцем. Тогда он ещё и паламист, и витгенштейнианец, и перипатетик, и платоник, и последователь Кузанского, и последователь Арто, и дильтеанец, и многое-многое другое. Хайдеггер – один из множества авторов, кого Бибихин подарил отечественному интеллектуальному пространству. Последнее было настолько голодным, что, называется, проглотили Хайдеггера вместе с переводчиком. И лишь затем стали медленно и печально учиться отличать одного от другого. Как показывают современные разговоры о Бибихине, мы научились этому искусству различия пока не вполне. Сам же Бибихин сплошь оригинален – и в стиле, и в ходах мысли, и в том, что именно он высказывает. Собрать образ его философии хотя бы воедино, представить единый собор его тем – задача, которая нам ещё предстоит.
Каковы место и роль Бибихина в истории русской философии?
В русской – не знаю, в мировой – первостепенное. Если исходить из последнего, то и в русской, наверное, он будет фигурой значительной, хотя, как показывают различные версии конструкции «русской философии», это, к сожалению, не факт. Как мыслитель он значительно крупнее Хайдеггера, однако должно пройти ещё много времени, прежде чем это заметят. Если останутся те, кто вообще к подобным замечаниям окажется способен. В этом смысле никакого оптимизма будущее философии у меня не вызывает. Впрочем, как и будущее литературы.
Что, по-вашему, отличает русскую философскую мысль?
Мне трудно ответить на этот вопрос. Мысль, захваченную миром и размахивающуюся до пределов мира, трудно локализовать. Иная мысль, кроме такой – и вовсе не интересна. К тому же, в такого рода вопросах таится хитрость. Скажем, что отличает немецкую мысль? От чего отличает? На каком фоне? На фоне немецкого безмыслия? Русскую мысль отличает русское безмыслие? Или же, если, скажем, что отличает русскую мысль от французской? Прежде чем отвечать на этот вопрос, следует слепить в единый комок всех мыслящих французов (за какой период?) и всех мыслящих соотечественников, а это уже и вовсе сомнительная процедура. Задача мысли – согласно Аристотелю – проводить различия. А в такого рода процедурах мы, напротив, различия вынуждены игнорировать, что значит: отнестись к философии безразлично. В общем, русскую философскую и любую другую философскую мысль отличает то, что она – мысль. На фоне безмыслия и полумыслия это главное.
Последний вопрос. О чём следует молчать?
О том, что бы ты не хотел, чтобы оно было.
Иллюстрации Даниила Лучкина