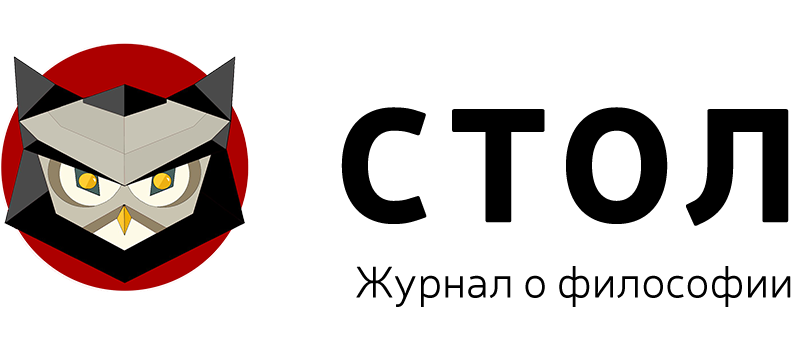В интервью с Алексеем Салиным, кандидатом философских наук, преподавателем МГУ и сотрудником Moscow Game Center, мы поговорили о развитии и восприятии game studies в России и в мире. Помимо этого, Алексей рассказал о своей стажировке в Гумбольдтовском университете в 2015–2016 годах, а также поведал о механизмах движения капитала в The Sims и скрытых методологических возможностях Фейерабенда.
Как ты пришёл к game studies и, шире, к media studies?
Всё началось с 2012 года, когда мы вместе с Александром Ветушинским стали заниматься game studies. Тогда это происходило в рамках встреч молодёжного интеллектуального клуба «Инстанция». В то время ещё существовал Московский философский колледж, такая неформальная организация, и в рамках этого проекта нас попросили организовать этот молодёжный клуб в Российской государственной библиотеке для молодёжи. И как-то так получилось, что мы решили сделать темой для встреч видеоигры. Сами мы на первой такой встрече не выступали, а на второй уже выступили. После этого было знакомство с коллегами из Питера, с Андреем Муждабой, который держал и держит сайт gamestudies.ru. Пытались вместе с ним вести этот сайт. Потом у нас произошло расхождение в представлении о том, как должны выглядеть исследования видеоигр. В общем и целом, Андрей считал, что они должны выглядеть чуть более академично, чем то, что хотели мы. Но, так или иначе, мы продолжили этим заниматься. Во-первых, потому что для нас это хороший способ легитимировать своё любимое времяпрепровождение, сделать его академически рентабельным. Тратить время не просто, чтобы поиграть, а чтобы поиграть и, соответственно, свой опыт проанализировать философски, изложить в научных исследованиях. Во-вторых, потому что это способ заземлять некоторые наши философские исследования. Мне кажется, философия всегда начинается с какого-либо опыта. И, если она вообще ни от чего не отталкивается, ни от каких наглядных вещей, то получаются безумные неинтересные и скучные гипотезы, которые, в общем-то, просто высосаны из пальца.
А к media studies я пришёл, прежде всего, по той причине, что видеоигры часто исследуются, особенно в американской среде, как вид медиа. И не только в американской среде, но и в немецкой, насколько я могу судить, исследования видеоигр занимают такую же позицию рядом с исследованиями медиа. Мне стало интересно, как вообще происходит формирование смысла в видеоиграх. Это одна из моих тем — процедурная герменевтика, которую я пытаюсь разработать, — такой подход к видеоиграм, который бы объяснял, как формируется смысл, как мы его понимаем и как в процессе игры игрок формирует этот смысл. Соответственно, когда мы говорим о том, что какое-то технологическое средство производит смысл, мы предполагаем, что это медиум. Медиум — это технический носитель смысла. Поэтому я и стал рассматривать игры как особого рода медиум и стал пытаться понять, что характеризует их как новый медиум.
В чём специфика игр как объекта исследований? В чём состоит интерес?
Здесь я сошлюсь на статью Богоста «Бардак в видеоиграх», которая опубликована в одном из номеров «Логоса», подготовленном нами ещё в 2015 году. Специфика состоит в том, что видеоигра — это сложный объект. В ней есть уровень интерфейса, того, как мы взаимодействуем с игрой; есть уровень восприятия и эстетики, где мы не взаимодействуем с игрой, а получаем некоторый эстетический эффект от неё; есть формальный уровень, уровень правил и нарратива. С другой стороны, игра — это также и программный код, и платформа для её реализации. Помимо этого, игра может исследоваться в социокультурном контексте: мы можем посмотреть, как её принимают те или иные социальные группы, рассмотреть игры как определённые репрезентации нашего общества и социальных порядков.
Особый интерес исследований заключается в том, что ты можешь непосредственно показывать, как некоторые процессы, происходящие на одном уровне, влияют, изменяют, коррелируют с другими процессами на другом уровне, тем самым проходя через разные порядки бытия, что особенно любят современные философы постконтинентального типа. Нет принципиального различия на природное и культурное, на физическое и дискурсивное. В одном из своих любимых кейсов про первую часть Sims (это исследование выходило в сборнике тезисов с конференции «Векторы») я показываю, что изменение механик в версиях Sims для ПК, домашних и портативных консолей было изначально вызвано изменением количества оперативной памяти, которую на тот момент предоставляла каждая из платформ, и каким образом изменение этих механик приводило к изменению смысла, производимого играми. Итак, интерес состоит в том, что видеоигры показывают то, чего так давно добивались все медиатеоретики, — как материальность медиа влияет на сообщение.
“Видеоигры показывают то, чего так давно добивались все медиатеоретики, – как материальность медиа влияет на сообщение”.
Как возможно исследование видеоигр? Есть ли методология?
Мне всегда казалось, что у нас, в Московском центре исследований видеоигр, царит полный Фейерабенд — в том смысле, что мы всячески стоим против методологического принуждения и считаем, что в принципе любой метод валиден. Если хочешь исследовать — бери и исследуй. Поэтому у нас есть и философы — мы с Александром, и социолог — Егор Соколов, культуролог — Максим Подвальный, религиовед — Леонид Мойжес. Сейчас у нас появились психолог Ольга Морозова и филолог Арсений Дериглазов. По сути, мы с разных точек зрения подходим к видеоиграм. Поэтому я не думаю, что имеет смысл сказать, что какой-то один метод — правильный, а все остальные — неправильные.
Старые и новые игры — что интереснее исследовать? Почему?
Сложно сказать. Изучение новых игр предполагает, что в них сейчас гораздо проще взять и поиграть. Если ты исследуешь новые игры, то чаще всего это связано с тем, что они недавно вышли и ты в них играешь, поэтому у тебя есть желание что-то о них сказать. Поэтому по привходящим причинам исследовать новые игры интереснее. С другой стороны, существует обратный эффект, когда ты хочешь исследовать новые игры и написать что-то о них, чтобы показать репрезентативность своей выборки, но у тебя есть дедлайн статьи. Так, например, в июне я писал статью про миф о расколдовывании мира (в веберовском смысле) в хоррорах. Во многих из них (например, во франшизе Resident Evil) процессы, которые кажутся нам сверхъестественными, оказываются просто следствием научных экспериментов. Например, в начале последней, 7-й, части Resident Evil Мия начинает атаковать Итана, производя впечатление одержимости демоническими силами. Сначала она нормальная, а потом — бац — у неё расширяются зрачки, и она действует так, будто это фильм «Экзорцист» или «Заклятие». В конечном счёте, оказывается, что это происки корпорации Umbrella.
Статью я написал, но мне пришлось смотреть прохождение этой игры, поскольку к тому моменту я ещё не успел её пройти, из-за чего много себе проспойлерил. Играть всё равно при этом интересно, так как я при исследовании этой игры опирался, прежде всего, на нарратив, а не на механику. Поэтому и спойлерил я себе исключительно сюжет и основные кат-сцены. Смысл в том, что новые игры, с одной стороны, вроде бы интереснее исследовать, потому что это то, во что ты, как правило, сейчас играешь; с другой стороны, если у тебя есть какой-то дедлайн, то это может наоборот разрушить удовольствие от игры.
Нарративы или механики — с чем ты больше работаешь?
Я не всегда исследую нарратив. Например, в исследовании о The Sims я ссылался именно на механики, на то, как они изменялись в зависимости от платформ. Я стараюсь исследовать в равной мере как нарративы, так и механики. Один из новых пунктов разрабатываемого мной подхода к исследованиям видеоигр (я называю его процедурной герменевтикой) заключается в том, что в игровом процессе, когда он уже существует, мы не можем аналитически отделить чисто механический уровень от чисто нарративного. Все механики являются для нас нарративными. Поэтому понимание игр возникает не только в случае нарративно богатых игр. Понимание у нас возникает даже тогда, когда мы играем в самые абстрактные игры типа тетриса или пакмана, поскольку каждая механика говорит нам что-то о мире игры, даже если этот мир совершенно не похож на наш. Например, в тетрисе очень много элементов мира. В каком-то смысле это даже богатый мир. В нём есть разные виды блоков, они могут вращаться, они могут исчезать, они могут заставлять нас проигрывать, если не доходят до конца. Поэтому, если мы рассмотрим понятия нарратива и акторов как участников нарратива так, как их вводит Греймас, тогда окажется, что мы можем блоки из тетриса понимать так же, как персонажей из нарративно богатых игр. Блок из тетриса может быть таким же актором, как и, например, Элой из Horizon Zero Dawn, по той причине, что и Элой, и блоки оказывают и претерпевают воздействие от других акторов. В случае Элой эти воздействия имеют помимо всего прочего и вербальный характер. Да, действительно, блоки в тетрисе не могут говорить, но, тем не менее, их взаимодействия не оказываются менее значащими, они всё равно что-то рассказывают о мире игры.
Поэтому в каком-то смысле для моего подхода само различие на механики и нарратив не настолько принципиально. Для моего подхода всё нарративно. Другое дело, что есть нарративы с помощью чисто визуальных вещей, динамик, механик и т. д., и есть нарративы, которые больше базируются на визуальном оформлении игрового мира и вербальных взаимодействиях между персонажами. В целом, всё это — нарративное выстраивание смысла игры.
Могут ли игры претендовать на статус новой религии/религий?
Я не знаю, что ответить на данный вопрос, потому что в моём представлении религия — это система каких-то взглядов, убеждений в существование некоторых вещей, для которых у нас нет доказательств. И при этом эта система убеждений приводит к необходимости тех или иных действий в связи с этими убеждениями. И в этом смысле игры — это или программное обеспечение, или система правил, или же платформа, но не система взглядов. Но с другой стороны, я точно могу сказать, что игры вполне могут быть использованы для религии, для того, чтобы объяснять некоторые религиозные ценности. Если взять, например, Infamous Second Son, то после прохождения, в финальном состоянии, у тебя либо плохая репутация, либо хорошая. По сути, ты оказываешься либо в раю, либо в аду. Процесс истории закончился точно так же, но твоя душа настолько испоганилась, что тебя уже дальше не пускают в мир всепрощения. Я думаю, что механика кармы подходит для того, чтобы изобразить какие-то религиозные взгляды. И если вам интересно, что об этом думают религиозные люди, то Леонид Мойжес, религиовед и мой коллега из Московского центра исследований видеоигр, проводил интервью, где опрашивал представителей нескольких конфессий, а именно священнослужителей православия, лютеранской церкви, католичества, иудаизма, ислама. Спрашивал у них, как они относятся к играм, и каждый из них высказывал свои взгляды. Насколько я помню, больше всего загорелся желанием делать христианские игры лютеранин.
Каким образом идеология и политика существуют в играх?
Идеология и политика могут существовать как нарративно, то есть с помощью визуальных, аудиальных, вербальных репрезентаций, так и на уровне механик, на уровне взаимосвязей между действиями игрока и ответом системы. Одним из моих изначальных тезисов [в исследовании о The Sims — ред.] было то, что в The Sims мы играем не за семью, а за домашнее хозяйство. Под одной крышей может быть несколько симов с разными фамилиями, они могут сожительствовать, и главное, что их объединяет, — это не семейные узы, а капитал, те деньги, которые они могут тратить и плоды использования которых они могут пожинать. Отсюда механика игры The Sims предполагает, что с самого начала у этой экономической единицы есть некоторый капитал, который нужно вкладывать в вещи. Но зачем? И зачем вообще нужны вещи? Для того чтобы симы в этой игре могли восполнять свои потребности, иначе они перестают существовать. Но для того чтобы дальше восполнять потребности, им снова нужны деньги. Это означает, что сим идёт на работу и получает там деньги. Игроку же остаётся мало времени для того, чтобы собственно играть симом. То есть это означает, что у сима остаётся очень мало свободного времени, он просто не успевает восполнить все свои потребности. Мы стараемся покупать лучшие вещи для того, чтобы удовлетворить его потребности быстрее. Но для этого нужно заработать больше денег. Мы пытаемся получить повышение, а для этого нам нужно ещё больше повысить уровень навыков сима и т. д. В общем, смысл в том, что всё это приводит к петле — к необходимости постоянного вкладывания денег в вещи и получения новых денег. Мы имеем тут классическую марксистскую схему товара и денег, капитала как самовозрастающей стоимости. В конечном счёте, домашнее хозяйство предстаёт перед нами как такая фабрика по производству капитала. Во второй части The Sims тот же самый механизм распространяется на специфический человеческий капитал, который мы набираем по ходу удовлетворения целей, желаний и общения. Всё это может складироваться, аккумулироваться в математической форме — в форме очков. Эта схема представляет человеческий капитал в математизированной, собственно капиталистической форме. Тем самым предполагается, что капитализм пронизывает не только домашние экономические отношения, но и чисто человеческие. И всё это есть чисто в механике, без особенного нарративного оформления игры.
Что в этом такого специфичного? Обычно, в других медиа, формулировка тезиса и обоснование (доказательство) тезиса разделены. Если мы показываем, что существование домашнего хозяйства капиталистично, то мы должны сначала этот тезис сказать, а потом привести ему доказательства. В играх же мы видим, что то, как доносится до нас этот тезис, и является самим доказательством. Способ производства тезиса, его выдвижение, — это способ самого доказательства. Тезис формулируется на основании некоторых уже произведённых шагов, которые ты сделал сам. По всей видимости, особенность внедрения этого в наши естественные убеждения заключается в том, что мы убеждаемся как бы на своём (да, симулированном) опыте. Мы сами себя, в конечном счёте, убеждаем благодаря своим же действиям в игре.
Как, по-твоему, насилие в играх влияет на игрока? И что делать с насилием игры над игроком (моральные дилеммы, смерть персонажей)?
Здесь лучше сослаться на психолога Ольгу Морозову. Она в своих лекциях часто говорила о том, что психологические исследования показывают более высокую агрессивность у людей, которые поиграли, например, в футбол, в сравнении с теми, кто в него не играл и не играет. Последние в целом менее агрессивны, чем те, кто поиграли в футбол. Так вот, экспериментальные данные показали, что нет никакой разницы в изменении отношения к насилию между игроками в футбол и игроками в видеоигры. Соответственно, нет никаких оснований предполагать, что видеоигры дают нам больше поводов для насилия, чем другие игры. Видеоигры не ведут к дополнительному усилению насилия. До сих пор в обществе существует некий стереотип, что как раз видеоигры сделают из наших детей убийц, маньяков и т. д. Проблема в том, что это может стать самосбывающимся пророчеством, если людей начать стигматизировать подобным образом. Это может привести к негативным эффектам. Геймеры могут, например, становиться асоциальными. Соответственно, не сами видеоигры, а отношение к геймерам является проблемой. Потому что видеоигры не приводят к насилию. А вот что может являться проблемой, так это пренебрежительное отношение к людям, которые играют в игры, и стигма. Как раз не так давно Всемирная организация здравоохранения признала видеоигровую зависимость. Я не отрицаю того, что она существует. Многие психологи тоже с этим согласны. Другое дело, что существование данного заболевания в списке может добавлять дополнительные страхи и беспокойства относительно игр. Что больше необходимо для того, чтобы видеоигры не приводили к насилию, так это просвещённость людей в том, что такое видеоигровая зависимость, просвещённость относительно экспериментальных данных в рамках исследований, которые проводят психологи. Это нужно для того, чтобы люди не относились к играм как к чему-то очень опасному и страшному. Бедой будет скорее недостаток знаний и неосведомлённость людей.
А что касается насилия над игроком, я думаю, что люди и играют для того, чтобы почувствовать насилие над собой. Особенно это видно в связи с такими хардкорными играми, как вся линия Souls или ужасы (survival horror) современного типа, где в принципе всё построено на том, что ты должен испытывать постоянные страх, тревогу. Я думаю, что одной из причин, по которой люди играют в игры, является тот же самый механизм, который заставляет их любить острую еду. Потому что острое — это не вкус, это ощущение боли. Когда у нас заканчивается стимул боли или тревоги, вырабатывается, насколько я помню, дофамин. У нас происходит всплеск счастья из-за того, что нам было больно, а сейчас боль проходит. То же самое происходит с хардкорными играми, где боль «создаётся» на более изощрённом уровне. В целом, любовь игроков к играм, я уверен, — это любовь к тому состоянию, когда ты переходишь из зоны дискомфорта в зону комфорта и отдыхаешь в ней.
Каковы перспективы исследования игр? Какие практические результаты можно наблюдать сейчас, спустя почти двадцать лет после возникновения game studies как самостоятельной дисциплины?
Здесь достаточно трудно проследить, каким образом тезисы из исследований видеоигр привели к тем или иным конкретным шагам в игровой индустрии. Насколько мне представляется, после начала и всё большего развития исследований видеоигр одно из следствий — это попытки самой игровой индустрии поставить под сомнение те ходы, которые рассматривались как основные. Например, если ты хочешь делать шутер, ты обязательно должен дать человеку в руки винтовку и стрелять. Развитие темы шутеров от первого лица в рамках исследований видеоигр привело к тому, что Дэн Пинчбек выдвинул идею о главенстве в шутерах не стрельбы, а ходьбы. Возможно, что отсюда произошёл всплеск симуляторов ходьбы, где главный акцент делается на самой механике ходьбы (как, например, в What Remains of Edith Finch). Это началось с игры Dear Esther самого Пинчбека. Исследования механик со стороны исследователей видеоигр приводят к тому, что сами исследователи придумывают новые способы погружения игрока в игру. В данном случае — это влияние Дэна Пинчбека и его подхода к шутеру от первого лица на сами игры.
Как академическое сообщество относится к играм в качестве объекта исследования? Есть ли сопротивление или снисходительность? Различно ли это отношение в России и в Германии?
Мне кажется, в России академическое сообщество нормально относится к этому объекту исследований. Например, у нас, на философском факультете, вполне возможно исследовать игры. Я не знаю, что бы на это сказал коллега Александр Ветушинский, но, по-моему, здесь нет особых препятствий. Другое дело, что исследования видеоигр — это не чисто философское занятие, это не прикладная философия. Скорее, это отдельное предметное поле и оно должно быть не теоретико-ориентированным, а практико-ориентированным, то есть, в конечном счёте, все исследования видеоигр должны быть направлены на то, чтобы сделать игры интереснее и лучше. Например, в Дании, в IT University Копенгагена, откуда в Европе game studies и начались, есть программа по играм, которую возглавляет Эспен Аарсет. Она находится не на философском факультете, а на факультете дизайна. Если там есть люди, занимающиеся какими-то философскими аспектами, то они всё равно должны знать дизайн игр. Некоторые философские ходы, которые совершаются в европейских game studies, — это ходы, которые нужны для того, чтобы так или иначе видоизменить, улучшить игры и дать какой-то совет, рекомендации индустрии. В этом смысле формула Дэна Пинчбека о производственно-ориентированном изучении игр (суть её в том, что для изучения и исследования ты должен сам создать игру и понять, как она вообще работает) осуществляется в европейских game studies. В рамках академического пространства в России проблема в том, что пока нет таких организаций, которые бы учили дизайну настолько, что хотели бы, помимо непосредственно гейм-дизайна, осмысления и исследования видеоигр, то есть которые хотели бы дать фундаментальную историю игр, историю механик и т. д.
Что касается Германии, то там я был не в Институте философии, хотя и на философском факультете. Философский факультет у них — это более обширная структура, чем у нас. Аналоги нашего факультета — это институты, которые находятся внутри факультета. И в Гумбольдтовском университете даже два философских факультета: философский факультет‑1 и философский факультет‑2. Я не помню точно, чем занимается философский факультет‑2. На философском факультете‑1, помимо всего прочего, есть Институт философии. Он и есть аналог нашего философского факультета. В Институте философии, насколько я знаю, царит дух аналитической философии (с большим уклоном в формальную логику) и, соответственно, истории философии, но она там развита слабее. Возможно, дело обстоит иначе в Свободном университете Берлина. И ещё там есть Институт европейской этнологии, где я стажировался. Почему я выбрал Институт европейской этнологии, так это потому, что там люди занимаются исследованиями науки и технологий (STS). Я поехал как раз по этой причине туда. В Институте этнологии был человек, который собирался защищать диссертацию по видеоиграм. Он занимался параэтнографическими исследованиями, то есть это этнография не в классических рамках (лицом к лицу), а, например, в интернете, когда ты можешь смотреть стримы и делать какие-то выводы о поведении людей. Также у меня есть знакомый из Потсдамского университета. Его зовут Себастьян Мёринг. Мы познакомились на конференции в Копенгагене в августе. И он работает на отделении по media studies. В общем, насколько я вижу, в Европе игры понимаются как то, что должно изучаться не в рамках философского факультета. Я не могу точно сказать, что на философских факультетах Европы есть какое-то пренебрежение к играм. Но, тем не менее, видно, что в России на философских факультетах можно исследовать игры, как минимум на кафедрах истории и теории мировой культуры, в то время как такое вряд ли представляется возможным в институтах философии в Европе.
В целом, я не могу сказать, что где-то есть более ханжеское, пренебрежительное отношение к играм, а где-то — менее. Мне кажется, у нас вполне адекватная среда. Возможно, что где-то есть люди, которые бы сказали, что играми вообще нельзя заниматься философам, но я, честно говоря, до сих пор их не встречал. Возможно, что мы просто живём в передовых частях России и общаемся в основном с представителями довольно передовых научных институций.
Как ты сейчас определяешь геймификацию? Что же это в большей степени — манипуляция игроком, повышение производительности труда, развлечение?
Если давать определение геймификации, то, как дал его Кевин Вербах, так оно и работает. Это использование игровых элементов механик и динамик в неигровом процессе, то есть когда мы используем какие-то классические элементы из игр вроде босса, задач, квестов в неигровом контексте. Что это и зачем? Самый общий и основной ответ — чтобы мотивировать людей что-то делать в неигровых контекстах с помощью игровых элементов. Теперь я это также интерпретирую как некоторый способ власти, как некоторый способ руководства к действию и определённому поведению. Эта власть может быть рассмотрена как власть над собой, когда ты, к примеру, используешь Duolingo для того, чтобы учить язык. И, соответственно, как власть над другими, когда ты, например, заставляешь людей фотографировать объекты в Ingress и отсылать их в Google, чтобы они предоставляли материал для Google Maps. В общем и целом, это власть и руководство через мотивацию.
Всегда ли уместна геймификация? Приводит ли она к реальным результатам? Чья позиция касательно геймификации тебе ближе — Джейн МакГонигл (оптимистическая) или Яна Богоста (пессимистическая)?
Моя позиция критическая. Мне кажется, философы в рамках исследований видеоигр и, шире, исследований науки и технологий нужны для так называемой гуманитарной экспертизы технологических инноваций. Задачей философа в связи с новыми технологиями и формированием новых научных фактов является предварительная экспертная оценка. Но не в том смысле, что должна быть создана какая-то экспертная комиссия для того, чтобы оценивать некоторые геймифицированные системы. Задача философа должна заключаться в том, чтобы видеть механики, которые предлагают те или иные геймифицированные системы, и анализировать, какие социальные импликации они предполагают. Функция философа заключается в том, чтобы критиковать, то есть видеть допустимые границы геймифицированных систем и сообщать о них широкой общественности. В этом смысле роль философа — это, скорее, роль такого публициста, который исследует современные технологии, анализирует возможные последствия их использования и выносит на суд общественности, стоит ли ими пользоваться или стоит ли их переделать. Такое отношение к геймификации и к новым геймифицированным системам я вывел на основании того, как в принципе необходимо относиться ко всем фактам и технологиям, которые создаются учёными и инженерами. В рамках исследований науки и технологий (STS) одна из проблем заключается в том, в какой мере широкие массы должны вовлекаться в исследования. Например, Латур в связи с этим говорит, что вовлечение масс необходимо только в крайних случаях, когда уже есть проблема и массы, на нее реагирующие. Только тогда факт должен как-то перестраиваться. При создании самих фактов и технологий широкие массы не должны привлекаться к этому процессу, но уже после того, как факты и технологии сделаны, общественность может перестраивать то, что учёные и технологи создали без вовлечения масс. Идея Латура заключается в том, что вовлечение масс не нужно в рамках создания фактов, потому что попытка заставить всех людей быть учёными, скорее, просто оттолкнёт их от всего этого. С другой стороны, проблема в том, что если люди вообще не будут допущены к этому процессу, то тогда им могут постфактум навязать те факты и технологии, которых они на самом деле не хотели. Поэтому функция философа — быть на этапе, когда факты и технологии ещё не введены в общество, медиатором между учёными/технологами и обычными людьми. Случай с геймификацией — это один из примеров. Технологии создают некоторое геймифицированное приложение, а философ должен критически к нему относиться и объяснять людям, к каким социальным импликациям оно приводит. Философ должен создавать проблемы для масс, делать из технологий проблемы. Вот что теперь я понимаю под критическим отношением к геймификации.
“Функция философа заключается в том, чтобы критиковать, то есть видеть допустимые границы геймифицированных систем и сообщать о них широкой общественности”.
Последний короткий вопрос. Твоя любимая игра?
Могу выделить несколько игр, которые произвели на меня сильное впечатление в тот момент, когда я в них играл. Но не могу сказать, что только эти игры мои любимые и что ничего не изменится. Например, когда я первый раз поиграл в Heavy Rain, мне очень понравилось. Показалось, что это неплохая идея такого интерактивного кино со многими возможными выходами, концовками, где нет ни проигрыша, ни выигрыша. Тогда меня это довольно сильно поразило. С другой стороны, сейчас я не могу сказать, что это самая лучшая игра из всего, во что я играл. Та игра, которая более всего мне пока что кажется наилучшей, — это Assassin’s Creed II. И мне она нравится из-за того, что она очень здорово использует условности медиума для передачи сообщения. Во-первых, в ней довольно неплохо используется встроенный игровой интерфейс, где полоска здоровья и мини-карта являются частью интерфейса не игры, а самого Анимуса внутри игры, что улучшает наше погружение в игровой мир. Да, это не только в Assassin’s Creed, но тем не менее. Но чем хороша именно Assassin’s Creed II, так это концовкой. Там, где Минерва обращается к Эцио, разговаривает с ним, а затем говорит: «Спасибо, что ты пришёл сюда, Эцио, но я хочу поговорить не с тобой». Дальше она поворачивает голову, смотрит с экрана на игрока и говорит: «Я пришла поговорить с тобой, Дезмонд». Эстетический эффект этой концовки предполагает, что я, на которого она в этот момент смотрит, может относиться к Дезмонду так же, как Дезмонд относится к Эцио. Игра всегда играет с тем, что я отношусь к Дезмонду так же, как Дезмонд относится к Эцио, потому что Дезмонд, по сути, играет за Эцио. Но за счёт вот этой рефлексивности отношений (когда Минерва говорит с Дезмондом через Эцио) можно предположить, что она точно так же через Дезмонда говорит с тобой. Мне кажется, эта концовка показывает, как здорово игра может играть с материальными особенностями самого игрового интерфейса. Ты сидишь перед монитором, и обращение к одному из протагонистов внутри игры может быть обращением к тебе. Ты оказываешься одним из ассасинов, который вселяется в собратьев по крови, скажем так. Вот этот эффект довольно неплохой. И до сих пор, по-моему, все считают вторую Assassin’s Creed лучшей из всей серии, она в своё время получала игру года после E3. Ну и последнее, во что я играл и что до сих пор доставляет мне радость, — это Horizon Zero Dawn. Я в неё только сейчас играю на самом деле, хотя она вышла уже довольно давно. Мне очень сложно представить, что в ней сделано не так. Я не могу до сих пор придраться. Единственное, к чему я могу придраться, — это то, что управление в ней иногда напоминает первую часть Assassin’s Creed, когда ты хочешь прыгнуть в одну сторону, а прыгаешь в другую. Какие-то такие штуки. В целом, игра кажется просто очень хорошей. Но я в неё пока не доиграл, поэтому не могу говорить о ней как философ. Так что игры, которые оказали на меня сильное воздействие, — это Heavy Rain, Assassin’s Creed II и пока что Horizon Zero Dawn.
25 сентября 2018
Автор иллюстраций Jerboa