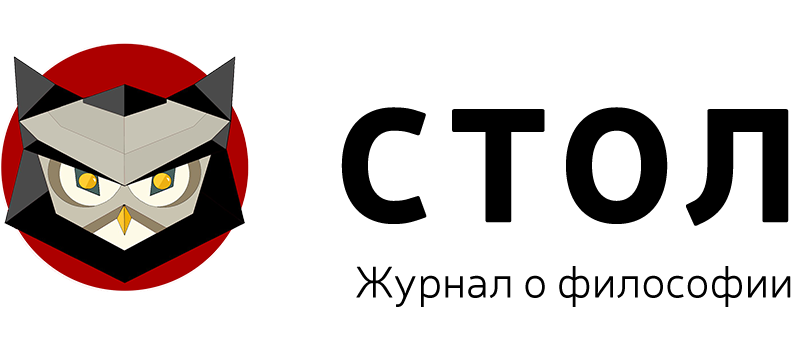От переводчика:
Леви Брайант — американский философ, представитель школы спекулятивного реализма, автор идеи объектно-ориентированной онтологии. В статье «Онтология дикой природы» [Wilderness Ontology], опубликованной им в блоге «Larval Subjects» в августе 2017 года, он пытается разъяснить ключевые моменты одноимённого концепта. Брайант, переходя от вопросов творчества концептов к явлению философской грамматики, подходит к ключевым понятиям и положениям «онтологии дикой природы», в контексте которой трактует бытие и его обитателей (в том числе и всё от них производное — например, человеческие культуру, цивилизацию, язык, общество) как продукты естественного развития природы. Автор предлагает модель мира, в котором не существует субъективно-человеческого деления вещей на «природные» и «рукотворные», а сам человек не является важным и основополагающим элементом бытия.
Такое чувство, будто я постоянно нахожусь в поиске метафор — они, словно некие механизмы, помогают мне осознать собственные мысли. Это не простое украшение и не простое дополнение [parergon], хоть Деррида и учил нас тому, что пополнения убранства [parerga] гораздо более важны, чем сперва может показаться. Не являются они и тем описательным инструментом, помогающим нам по-учительски объяснять концепты кому-либо. Нет. Метафоры — это вспышки мысли; даже нечто, быстрее самой мысли. Мы, я думаю, путаемся в них, как если бы мы были результатом неких метаморфоз, которые вынуждены были испытать. Метафоры инициируют векторы становления, сложения мысли самыми причудливыми способами. И, как результат, главная опасность метафор заключается в том, что неизвестна конечная точка остановки мысли. Однажды вы просыпаетесь в Новом Орлеане и говорите себе: «Всё суть машина!». И вы даже понять не можете, почему и откуда пришла эта мысль. Тем не менее, следующие несколько лет вы проводите, постоянно реконцептуализируюя всё сущее под рамки этой новой мысли. «Если я вдруг скажу, что всё вокруг — это машина, тогда как мне расценивать рукотворные технологии?» «Каким образом я могу понять жизнь как машину? А педагогику? Книгу? Теорию?» «Если все вещи — машины, то сама эта моя теория — машина. И как мне тогда определить отношение этой машины-теории ко всем другим машинам, которые она пытается постичь?»
«Честно говоря, словосочетание «дикая природа» не очень подходит к концепту «онтологии дикой природы», который я пытаюсь объяснить – он звучит как часть противопоставления «природа-цивилизация», «рукотворное-природное». Тем не менее, уж очень мне нравятся романтические нотки этого термина, и я не могу его просто так забросить, несмотря на вносимую им смуту. Как онтологический концепт, «дикая природа» не должна обозначать никакого соперничества между цивилизацией и природой. Она, скорее, разделяет два разных направления онтологии: вертикальную онтологию гуманистов, где бытие определяется по отношению к человеку и постгуманистические направления мысли, поддерживающие сплошные онтологии и имманенцию»
Леви Брайант, 2011
Целое приключение было начато с появлением этой метафоры, этой невероятной мысли, из-за которой, в конце концов, вы и меняетесь. Вы понятия не имеете, выйдет ли из этого что-то хорошее или же вы будете полностью ей поглощены — и по этой причине метафоры опасны. На следующее утро вы просыпаетесь с мыслью о том, что всё является неким искривлением, складкой [a pleat or a fold]. И тогда, совершенно неожиданно, вы попадаете в иновселенное бытие. Что значит — постигать сущее как сложенную ткань [pleating] или как некое оригами? Какова логика искривлений или складок? Что является субъектом в складочном понимании? А что — объектом? Каким оригами будет знание, этика, политика? И вновь приходится все переделывать. Это, впрочем, даже хорошо — переделка тоже является своеобразным оригами: вы складываете то, что задумали ещё до начала авантюры и с каждым новым сложением это нечто становится чем-то иным, не похожим ни на какую из своих предыдущих форм.
Вероятно, то, что меня интересует, можно назвать «философской грамматикой» [philosophical grammar], проходящей через нас. Я, например, никогда всерьез не учил грамматику, пока не начал заниматься немецким и французским — и есть у меня подозрение, что по письму это заметно. Тем не менее, и до этого грамотность была во мне, служа способом некоего «сложения» языка или в роли какой-то машины — но я никогда не осознавал самой её сущности. Я чувствовал, когда предложение звучало или выглядело неправильно, хоть и не мог объяснить почему. И, я думаю, то же самое работает с философскими концептами. Вне зависимости от того, специально ли мы обучены философии или нет, мы плаваем в философских концептах подобно дельфинам в океане, едва ли осознавая, что они [концепты] вообще есть. Деррида называет их «философемы». Гегель говорит, что даже простейшее предложение пронизано сложными «понятиями» [notions], в которых можно разглядеть каждый аспект наших мыслей, отношения к себе, к опыту и к другим. Лакан в Семинаре № 5 скажет, что язык «наставил нам рога» [cuckold by language]; другими словами, язык использует нас, а не мы его. И то же можно сказать про философскую грамматику: она наполняет каждый аспект наших мыслей, даже если мы сами того не осознаём, вопросы, которые задаём, наше отношение к проблемам и даже наше мировосприятие. Это, впрочем, можно назвать формой лишения свободы, ведь грамматика концептов может вести нас не самыми лучшими путями… Но тогда, как определить лучший?
Становясь на более витгенштейнианские [Wittgensteinian] позиции, я начинаю думать, что большая часть философской деятельности и заключается в работе над самой философской грамматикой. Это была бы некая форма свободы. Мы пытаемся работать над ней, чтоб с её помощью открыть совершенно иной уровень бытия. Это, я думаю, будет отправной точкой от Витгенштейна; или, в любом случае, от данной конкретной версии Витгенштейна. Там, где Витгенштейн говорит, что «философия — это то, что происходит, когда язык берёт отпуск», и пытается аннулировать философские проблемы, обращаясь к анализу обычного языкопользования, я мечтаю о начале философского отпуска или о новых языковых приключениях. Взять, например, концепт природы. Существует грамматика этого концепта, пронизывающая каждую сторону современной мысли и жизни. Возьмем, например, у Аристотеля точную его формулировку — природа это физис [physis] или нечто, возникшее само по себе. Желудь по природе своей вырастает в дуб. С другой же стороны, технэ [techne] — это то, что привносит в природу нечто, что ей самой не создано, не положено. В природе дуба нет ничего такого, что создавало бы из него стол или трость. Вместо этого, ремесленник создаёт новую форму дерева из ничего.
Не будет преувеличением сказать, что этот простой концепт проходит сквозь каждый аспект нашей мысли вне зависимости от того, слышали ли мы об Аристотеле или нет (и я не пытаюсь сказать тут, что Аристотель чем-то плох; он заслуживает внимания точно так же, как и Конфуций, Мэн-цзы, Кант, Гегель, Ницше и все остальные. Мы попросту ограничиваем наши мысли, накладывая табу на мыслителей). Он помогает нам различать естественную и искусственную еду. Он разделяет половую принадлежность, рисуя — неосознанно — порог между «естественной» половой принадлежностью и «неестественной», между «природными» — биологическими — полами и «неприродными». Он также проводит линию между природой и культурой, в итоге приходя к той мысли, что существуют разные области, которые можно расценивать независимо друг от друга, или к той, что проблемы эко-философа отличаются от тех, которые заботят критического теоретика. Философской грамматике очень трудно сопротивляться, когда она является частью нас самих. Она наполняет наши мысли, наше восприятие, — а мы того даже не замечаем. Есть дикая природа [wilderness], находящаяся вне технэ, а есть цивилизация, культура. И мы обозначаем каждую из сторон по-разному, в зависимости от обстоятельств. В один момент дикая природа будет «хорошей», а культура «плохой»; в другой — кого-нибудь назовут «варварами», существами дикой природы — а культура, технэ, будет «хорошей».
«Что необходимо понимать в дикоприродном бытии, так это то, что люди не занимают в нём какого-либо привилегированного или определяющего значения. Мы – существа среди существ, и реальность продолжит своё существование даже тогда, когда мы перестанем существовать или вымрем. Децентрализация и приумножение точек зрения – главное предназначение дикоприродного мышления. В таком случае человеческий взгляд на мир будет всего лишь одним из множества других. Охотник соперничает с точкой зрения гризли или приближающейся зимней бури. Он – существо среди существ, а не то существо, с которым себя соотносят все остальные».
Леви Брайант, 2011
Но что, если мы всерьёз воспримем строку из одной из песен группы Love & Rockets? Что, если позаимствуем афоризм «вы не можете идти против природы, ведь в этом и есть ваша природа»? Вместо того, чтобы следовать мортоновскому пути «экологии без природы», мы заявили, что только природа и существует. Поначалу изменения были не так заметны. Но тогда началась работа над философской грамматикой — тысячелетней, не знающей никаких межкультурных границ. Мы сделали её путеводной нитью нашего «полёта». В одночасье уничтожили разницу между физисом и технэ, природным и искусственным. Технэ — всего лишь одна из многих других тенденций; может, и куда более ускоренная в сравнении с эволюцией, но от того не менее природная. Мы уничтожили границу между природой и культурой, между дикой природой и цивилизацией, между варварами и цивилизованными, рассматривая их как некий природный феномен. Мы не можем больше утверждать, что есть более или менее цивилизованные люди, более или менее природные полы. Вместо этого мы выступаем лишь как часть дикой природы. Вы не становитесь ближе к природе, когда отдыхаете в Роки-Маунтин, подальше от города. Нет, даже посреди Токио вы всё равно будете в дикой природе, ведь кроме неё ничего и не существует. Дикая природа — не место, куда можно пойти. Это, скорее, концепт места всех мест. И с этим концептуальным сдвигом и другие концепты должны быть переделаны, сложены [folded] по-новому; в то же время становится невозможным думать о городе и пригороде, о городском и пригородном, не признавая всё это зависимым от более «широкого» природного мира. Они являются таким же проявлением природы, как и всё другое, пронизаны ей насквозь. Мы не можем более различить культурную, экономическую и экологическую политику — ведь все её подвиды объясняются через дикую природу и принадлежат только ей. И теперь, где ранее «природа» осмыслялась в эссенциалистских рамках, где звучали постоянные споры между теми, кто считает, что правление «положено природой» (Тезис Аристотеля в «Политике»), и между теми, кто верит в то, что общество положено человеком, где веровали в превосходство мужчины над женщиной или одной расы над другой, мы обнаруживаем креативную и изобретательную природу, в рамках которой все аспекты этих споров признаются одинаково верными и «природными», — и вести демагогию становится невозможным. Мы работаем над грамматикой и стараемся воплотить её в действительность, пронося через немыслимые места и, хотелось бы верить, даруя надежду на воплощение самых немыслимых форм жизни. И если мы спросим, мол, где же всё-таки «дикие» вещи находятся, то ответ прост — везде.
Иллюстрации: LazySeal