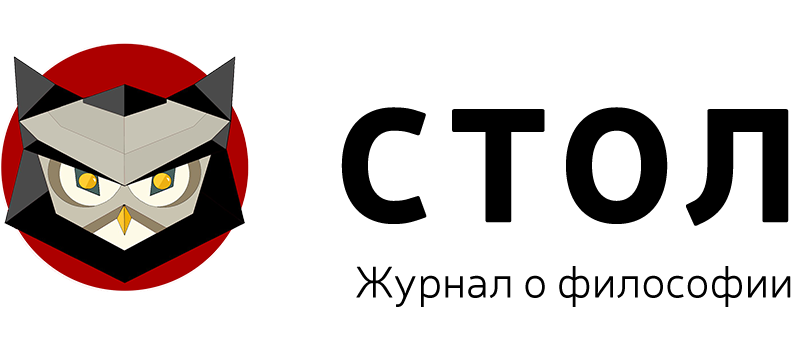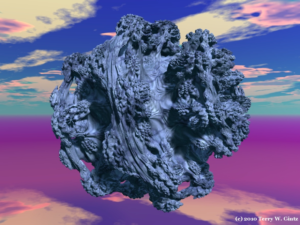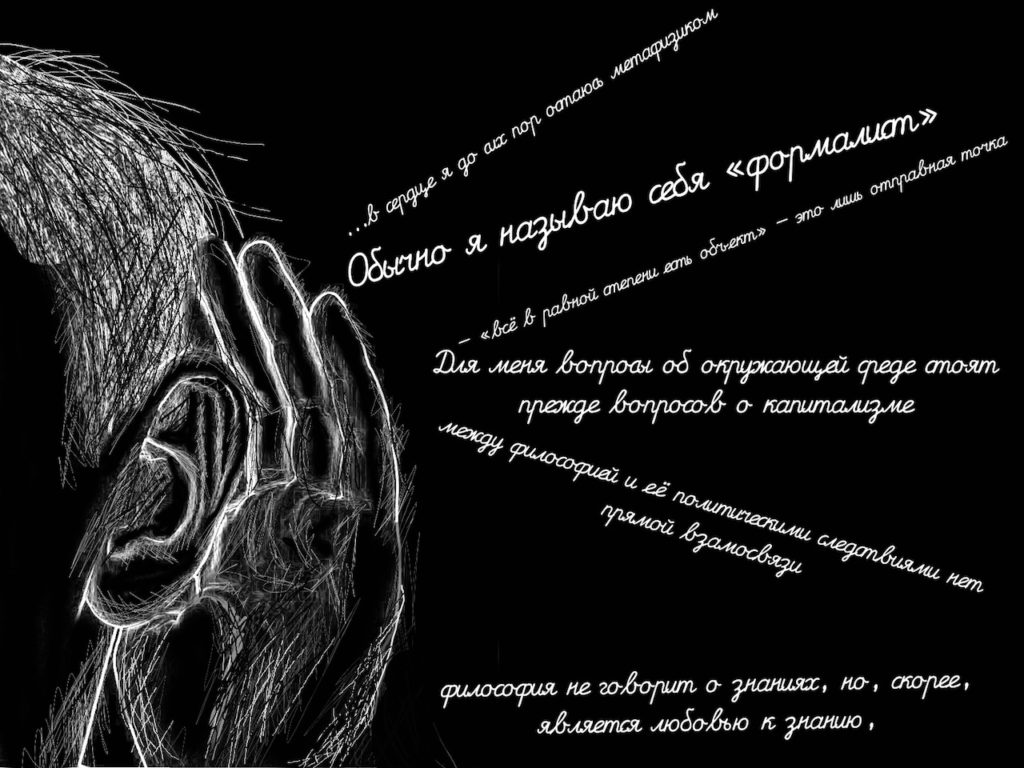*Объектно-ориентированная онтология
Грэм Харман – почетный профессор философии в Институте Архитектуры Южной Калифорнии. В этом интервью, опубликованном в августовском номере журнала Philosophy Now, он отвечает на вопросы Тьяго Пино, аспиранта университета Баии (Бразилия), рассказывая о своих работах по метафизике объектов, вылившихся в создание объектно-ориентированной онтологии.
— Здравствуйте, профессор. Как Вы впервые пришли к философии?
— Иронично, но, вероятно, не удивительно, — моя мама увидела во мне философа раньше, чем я сам. Когда мне было лет тринадцать или четырнадцать, она записала мена на краткий курс философии, который вёл живший в нашем городе профессор. Это было вполне обычное введение в историю философии, где мы читали платоновские «Апологию», «Критона» и «Федра». В том возрасте эти диалоги казались мне не более чем скучными и высокопарными обсуждениями души, мудрости и всего такого. К Платону я был не готов. В какой-то момент, через год или два, мама вновь записала меня на вечерний курс в старшей школе, который читал харизматичный преподаватель философии права. Это заинтересовало меня чуть больше. Мы обсуждали конкретные ситуации: если два человека в спасательной шлюпке ради сохранения своих жизней съели третьего, должны ли они испытывать угрызения совести? И всё же я не чувствовал, что это — моё. Правда, дома у нас стояло собрание энциклопедий, статьи из которых я часто читал. Приобрела их, опять же, моя мама. Вообще она умнейший человек, хоть академического образования у неё фактически нет. Как-то ночью, лет в шестнадцать, я решил прочитать в энциклопедии статью под названием «Философия». С того момента меня зацепило. В статье история философии представлялась как набор соревнующихся радикальных теорий о реальности. Другими словами, это был, скорее, мой первый контакт с метафизикой, нежели с философией как дискурсом справедливости или права. Эта первая проба стала очень запоминающейся и непосредственной. То было подходящее для меня введение в философию, и в сердце я до сих пор остаюсь метафизиком.
— В 1999 году Вы назвали Ваш подход «объектно-ориентированная философия», а Брайант назвал его «объектно-ориентированная онтология» (ООО), что прочнее закрепилось в философской среде. Какое определение этому даёте Вы сами?
— Для меня важны две особенности ООО, хоть в нашей группе1 согласие имеется только по одной из них. Первая особенность — это идея «плоской онтологии». Она означает, что все объекты равны и, прежде всего, что типологически люди никак не отличаются от не-людей, как если бы вселенная была разделена на два основных вида вещей. Вторая особенность ООО, важнейшая для меня и не находящая отклика у того же Брайанта, — это наличие двух управляющих вселенной дуализмов. Первый — известное в ООО различение между «запредельной реальностью» [кантовский мир в себе] и реальностью, доступной чувственному восприятию. Второй, но столь же важный, — различение между объектами и их качествами. Вторая особенность часто полностью игнорируется моими критиками, а иногда даже моими сторонниками, но ООО невозможно понять без внимания к ней.
— Что Вы переняли у Бруно Латура и его акторно-сетевой теории? За что Вы его критикуете?
— Латуру суждено писать книги по истории из-за его подхода к осознанию настоящей структуры современности и необходимости её преодоления. Современность пытается определить реальность лишь как две чистые зоны: (1) человеческие существа и (2) всё остальное. Этот неуместный стиль модерновой мысли я называю «таксономией» или «онто-таксономией». Латур находит не лучшее решение данной проблемы. В конечном счёте, он думает, что сбросить с себя эту дуальность модерна, значит, сказать, что и люди, и не-люди представлены везде и всегда в гибридной помеси. Это приводит его к идеалистически звучащей аргументации — никакие вещи не могут существовать, если нет человека, приводящего их к существованию. Вспомните, например, его идею о туберкулёзе, которого не было в Древнем Египте, потому что тогда его ещё не открыли. По этой причине большинство ученых ненавидят Латура, а большинство философов-реалистов не видят в нем толку. Но его постановка проблемы современности превосходна, и в результате её будут расценивать как поворотный момент, когда мы оставим эру онто-таксономии позади.
— Вы — реалист, но не материалист. Как бы Вы описали Вашу позицию?
— Обычно я называю себя «формалист». Я подразумеваю под этим «субстанциальные формы» в средневековом и лейбницевском понимании. Оно отсылает нас к формам, скрытым в самих вещах, а не выведенным из вещей посредством человеческого разума.
Проблема материализма в том, что он сводится к виду редукционизма. Традиционный материализм низводит всё к хаотично перемещающимся в пустоте мельчайшим частицам. Это «подрывной» метод, который не учитывает проявление новых вещей над мельчайшим уровнем. Наиболее современный материализм культурных исследований означает лишь, что всё сформировано историей, группами, социальными практиками и тому подобными категориями. Это перевёрнутая версия метафизического материализма, так как он редуцирует объекты снизу-вверх, к их социальным отношениям. В этом и заключается уязвимость к той критике, на которую способны философы-реалисты. Например, если нечто есть не более чем имеющийся набор социальных отношений, то как оно может превратиться в новые отношения в будущем? В таком случае всё должно застыть в своём текущем состоянии без какого-либо движения.
— Стоит ли нам вернуться к Иммануилу Канту?
— Вероятно, Иммануил Кант — знаковый философ современности — может быть, даже более знаковый, чем Рене Декарт. Если мы хотим оглянуться назад и понять, в каком месте современная философия свернула не туда, то, как по мне, необходимо перебороть скорее самого Канта, нежели его многочисленных наследников, из которых Гуссерль и Хайдеггер — мои фавориты.
Самый известный и наиболее влиятельный аргумент против Канта принадлежит немецким идеалистам: «Мы не можем думать о чём-то, находящемся вне мышления, без того, чтобы обратить это в мысль; следовательно, вещь-в-себе [мир, независимый от человеческого восприятия и мысли] есть противоречащая себе идея». Кажущаяся безжалостность логики этого довода на самом деле зиждется на путанице между двумя разными видами «мышления». В то время как ООО утверждает, что мы можем мысленно оперировать к чему-то вне мысли, не воспринимая это в смысле буквального ментального доступа к качествам данного предмета; аргумент немецких идеалистов игнорирует всё по типу аллюзий: либо ты думаешь о чём-то в строгом смысле слова, либо ты остаёшься лишь со смутным ощущением и мистическим рукопожатием. Видимо, никто больше не распознал в этом пародию на парадокс Менона [«Если мы пока не знаем, что есть Х, то как мы узнаем Х, когда найдем его?»].
В любом случае, настоящая проблема у Канта — это не вещь-в-себе или конечность, которые я нахожу притягательными философскими исследованиями. На самом деле, проблема в том, что Кант видит вещь-в-себе как преследующую человека, когда по факту выведение реальности из непосредственного взаимодействия с ней можно найти даже в грубых причинно-следственных связях.
— Некоторые критики говорят, что Ваш подход слишком радикален, потому что он делает человека равным любому другому объекту. Что Вы на это скажете?
— Моя плоская онтология — «всё в равной степени есть объект» — это лишь отправная точка. Однако метафизика обязана начинаться с неприятия всех предшествовавших клише о разделении мира. В этой связи опаснейшим предубеждением со времени Средневековья и до Канта (1724-1804) была уверенность в том, что Творец и сотворённое типологически совершенно различны. Опасность же модернистской ошибки, отражающейся и в нашем 21 веке, состоит в отсутствии у нас модели, ставящей с одной стороны человека, а с другой — всё остальное.
Александр Гэллоуэй в своей статье «Нищета философии» сделал ремарку относительно того, что ООО «ставит людей на один уровень с мусором». Он заинтересован в том, чтобы из смутных форм политической левизны в плоской онтологии вывести условия для доступа ко всем видам философии. Это становится невозможным, как только ООО запрещает человеку быть единственным проводником в философию. Дело в том, что условные левые, — хоть они и лучше, чем условные правые, — появляются в эпоху философского идеализма, и поэтому ключевые основания их теорий должны быть переосмыслены. Но какими бы ни были ваши политические взгляды, важнее то, что плоская онтология подразумевает невозможность построить их на метафизических основаниях.
— Однажды Вы написали, что онтология [учение о бытии] не имеет ничего общего с политикой. Что Вы имели в виду?
— Я бы сказал иначе: между философией и её политическими следствиями нет прямой взамосвязи. Понимаете, большинство или даже все величайшие философы обращались к людям, имеющим самые разные политические взгляды. Есть левые и правые гегельянцы, ницшеанцы и хайдеггерианцы. Будучи нацистом, Хайдеггер имеет многочисленных почитателей слева, в том числе и Герберта Маркузе. И каждый опирается на Канта. Но взгляните на современного французского метафизика и политического философа Алена Бадью. Я полагаю, жюри ещё не определились, насколько важным он окажется для истории философии. Но я сожалею, что в настоящее время он симпатизирует левым, которые видят в нём лишь сильного теоретического защитника их взглядов. Мне кажется, есть нечто необоснованное в том, что Бадью позволяет политическим событиям принимать форму «коммунистической инварианты». Он действительно думает, что только у левых можно чему-то научиться? Действительно ли невозможно организовать такое политическое событие, которое преподаст умеренный или даже консервативный урок? Я не уверен. Это так, только если вы желаете принимать все заблуждения и неудачи левых и называть их успехом. Например, не следует ли воспринимать египетскую революцию 2011 года2 как неудачу? Бадью и Жижек удвоили её поддержку. Эта революция, безусловно, была волнующим событием. Я был в Египте, когда это происходило. Так или иначе, я знаю многих египтян, кто бы предпочёл вернуть назад дни Мубарака; и, прежде чем отвергать их как бесхребетных соглашателей, нам стоит более пристально посмотреть на то, в чём ошиблись революционеры с площади Тахрира.
Я думаю, Латур преподаёт нам два политических урока, хотя он обычно не рассматривается как политический философ. Во-первых, современная философия движется вокруг вопроса о «состоянии природы»: является ли человек от природы добрым или злым? С тех пор как Латур стал рассматривать политическую роль неодушевленных предметов, человек начал терять своё значение. Один из главных аргументов, которые консерваторы любят вбивать нам в голову, состоит в том, что человеческая натура никогда не менялась; что мы — самые опасные животные; что лишь глубочайшее знание, пришедшее от философов и историков античности, покажет нам, как группа мудрых людей смогла построить греческий полис из человеческого уродства; что попытки к созданию утопии часто приводят к аду на земле и так далее. Но если человечество больше не является ключом к политической картине мира, эти аргументы теряют свою силу. Во-вторых, и у правых, и у левых — хотя более у левых — существует тенденция думать, что политическое знание возможно. Например, уверенность, что мы были рождены свободными и оказались в цепях из-за испорченного общества или что нас эксплуатирует капиталистический класс для извлечения выгоды… Если есть то, чему мы можем научиться у разумных и вдумчивых консерваторов, так это их величайшей осторожности в политической сфере. На самом деле, существует множество ситуаций, когда сохранение статуса-кво является самым мудрым решением. В конечном счёте, политика и мораль — это два разных «способа существования», если процитировать еще одну мысль Латура.
— Какие социальные теории Вы бы упомянули вместе с теорией Бруно Латура? Была бы среди них теория Мануэля Деланда?
— Да, Деланда определенно оказался бы в этом списке. Я узнал много полезного из его «Новой философии общества» (2006). Хотя я наслышан о том, что социальные теоретики не согласны с ним в определенных аспектах и, несмотря на это, продолжают цитировать этот труд Деланда тысячами — даже более, чем его предыдущие книги. Должно быть, какая-то значимость в этом есть. Для меня, для моих целей страницы этой книги — нечто вроде ключа. Так, Деланда создал разграничение, которое стало решающим для ООО в последующие годы, хотя он и не использовал ту терминологию, которую использую я. Он говорил о том, что даже если человек является частью человеческого общества, социальные структуры обладают собственной реальностью, не зависящей от человеческого представления о них. Я часто называю это различием между человеком в качестве «ингредиента» (ingredient) и человеком в качестве «наблюдателя» (observer) в разных ситуациях. Это различие играет важную роль в моей новой книге «Искусство и объекты» (2020) и станет ещё более важным для моей критики онто-таксономии. Прежде всего, это позволяет нам увидеть ошибочность «хипстеризма» в идее о саморефлексии, которое мы наблюдаем несколько последних десятилетий. Мысли человека о человеческом обществе не являются «саморефлексивными», поскольку «Я» как часть общества и «Я», который наблюдает и говорит о нём, в некоторым смысле не одно и то же «Я».
— Считаете ли Вы искусство центральным для объектно-ориентированной онтологии? Какую роль играет искусство в Вашей теории?
— Объектно-ориентированная онтология относится с подозрением ко всем формам буквализма, из которых знание — лишь выдающийся пример.
Буквализм в ООО определяется как то, что объединяет вещь с совокупностью её качеств. Например, как в случае Дэвида Юма, который не только яблоки сводил к набору качеств, но и приближал человеческую личность к совокупности восприятий. Я уверен, что эстетический опыт — это такой вид опыта, который вбивает клин между объектами и их качествами, что также требует, чтобы наблюдатель встал на «объектную» сторону этой двойственности, поскольку в художественном опыте объект выводится из поля зрения, и мы должны заменить его собой. Если быть более точным, я говорю здесь о «художественном опыте», не об эстетике в смысле объектно-ориентированной онтологии, поскольку эстетика в ООО относится к более широкому качественно-объектному делению, которое мы находим в нашем восприятии времени и даже в причинном взаимодействии. В современный период существует тенденция выдвигать предположение, что действительно глубокими мыслителями являются именно философы. Сейчас я не уступаю никому в моём восхищении Ньютоном, Лавуазье, Максвеллом, Эйнштейном и Бором; но почему мне следует восхищаться ими больше, чем Шекспиром, Бетховеном и Пикассо? Здесь проявляются когнитивные достижения человеческой расы, которые существуют и развиваются в иной сфере познания.
— Вы утверждали, что философия не говорит о знаниях, но, скорее, является любовью к знанию, поэтому мы имеем только косвенный контакт со знанием. Как это?
— Это аналогично моему интересу к эстетике. Сократ был философом, он искал истину, а не занимался отдельно гносеологией или естествознанием. Ему интересны определения вещей, но нет ни одного определения, которое бы его удовлетворило. Сократ ссылается на невежество, настаивая, что никогда не будет ничьим учителем. Я считаю это не ироническим выражением превосходства над массами, но честнейшим осознанием собственной невежественности. Знание великолепно. Человеческая раса нуждается в знаниях для выживания. Но знания — это ещё не всё.
— Вы говорили, что философия должна быть занимательной. Это то, чему Вы научились у Бруно Латура и Славоя Жижека?
— Латур и Жижек несомненно занимательны в том смысле, в каком Хайдеггер — определенно нет. Безусловно, занимательность — одно из наиболее привлекательных свойств работ Латура. С ними я впервые познакомился в 1998 году. Позже Жерар де Фриз, небезызвестный голландский латурианец, сказал мне, что работы Латура привлекли его по этой же причине. Но юмор был важен для меня как теоретический вопрос еще задолго до моего первого прочтения Латура. Возможно, моей лучшей курсовой работой, написанной в Университете Депола, была попытка реконструировать аристотелевскую теорию комедии, основываясь на нескольких упоминаниях в его «Поэтике». Я писал её очень давно, в 1991, в то время, когда только начали принимать форму первые идеи по объектно-ориентированной онтологии. Возможно, моё первое философское озарение пришло ко мне в 1987, когда я осознал, что определение интенциональности у Гуссерля и определение комедии у Аристотеля имеют некоторые сходства. Интенциональность означает, что в каждом мыслительном акте наш разум воспринимает объект всерьёз, тогда как комедия — это наблюдение того, как агент принимает всерьёз то, что мы считаем в некотором смысле ниже себя. Это как раз идея Аристотеля о том, что в комедии люди хуже, чем мы, но «хуже» здесь означает только то, что они воспринимают всерьёз те объекты, которые мы бы не стали. Хотя люди в комедиях могут быть выше нас в других аспектах.
— Каковы, по Вашему мнению, главные вопросы настоящего времени?
— Для меня вопросы об окружающей среде стоят прежде вопросов о капитализме. Советский блок в прошлом испортил окружающую среду так же сильно, как западный капитализм, и — нравится вам это или нет — нам необходимы капиталистические инструменты, чтобы выйти из экокризиса. Капитализм, по-видимому, вырождается в плутократическую фазу, которая не может обеспечить выход из сложившейся ситуации. Но я озабочен и тем, как легко одержать моральное «превосходство», лишь критикуя неолиберализм. Боюсь, что большинство антикапиталистов, с которыми я встречаюсь, наивно полагают, что держат всё под контролем — а чувство ложной уверенности всегда было одним из опаснейших. Проблемы окружающей среды, по крайней мере, хороши тем, что они и иллюзорны, и серьёзны. На мой взгляд, это означает, что глобальное потепление с большей вероятностью вызовет новую идейную волну, чем уже устоявшаяся критика капитализма, просто повторяющая одни и те же жалобы в течение более 100 лет.
— Чему следует учиться молодому философу?
— Гораздо большему, чем просто философии. Важно быть открытым и любознательным и интересоваться даже теми сферами, которые сейчас кажутся совсем неинтересными. Например, мне никогда не была интересна история английских садов до тех пор, пока я, исследуя свою книгу по архитектуре, не узнал об их величайшем значении в истории эстетики. Удивительно, но английские сады и их эстетика испытали на себе влияние Китая, что оказало влияние на романтизм и эстетику Канта.
Держите ухо востро, а глаза открытыми, и внезапно вы обнаружите, что увлечены чем-то, о чём раньше вы почти ничего не знали. Я всегда вспоминаю о том, как в 1987 году я впервые узнал имя Хайдеггера, но спустя десятилетие познакомился со всеми его трудами, просто потому что это стало действительно важным для меня, хотя прежде это было не так.
Автор иллюстраций: FireAnn