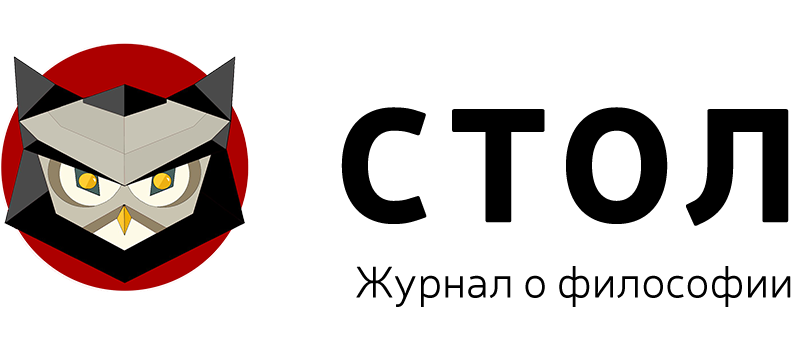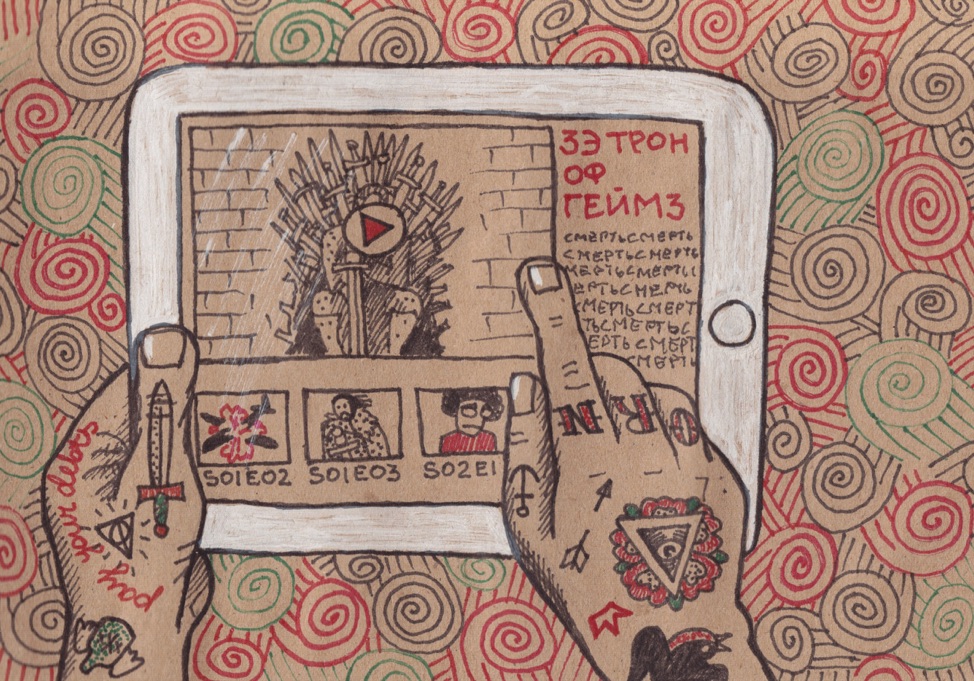В начале был сериал. И сериал этот есть сама жизнь, схваченная за свое нутро повторения. Долгое время он был частью будней лишь домохозяек, коротающих свой день в ожидании мужа с работы. Это связано с тем, что самый популярный формат сериала – мыльная опера – транслировался именно в дневное время, т.е. тогда, когда добропорядочная хранительница домашнего очага, выполнившая все полагающиеся ей работы, могла предаться одинокой сериальной терапии.
Реки пролитых слез, тонны съеденных пирожных в наблюдении за жизнью с красивыми домами, напомаженными кавалерами и такой же любовью, действительно выполняли функцию специфической терапии, заполняя лакуну обыденности экзистенциальными переживаниями экранного Другого. При этом на безопасном расстоянии. Без потери столь дорогого ощущения стабильности и надежности, поскольку телегерои не могли предать.
Знакомые лица и персонажи становились близкими друзьями, а их поведение – уж если не образцом, то, по крайней мере, предметом обсуждения с соседками. Тем самым сериал выполнял и функцию двойной социализации: с реальным (социальным) Другим и воображаемым (сериальным) Другим. А резонируя с ритмом обыденной жизни, ее алгоритмичностью, превращался в невозможное – в место существования утопии, т.е. того, что по определению не должно иметь никакого места. Но тут появился Доктор Хаус со своей тростью и все как всегда испортил.
Чрезвычайно популярный в наши дни философ Славой Жижек как-то сказал о том, что «дух времени в массовой культуре из кино переместился в телесериалы». Т.е. мы, по его мнению, являемся свидетелями смены упаковки для концентрата наиболее характерных культурных черт эпохи. Но не был ли сериал изначально консервной банкой этого «духа времени» с ароматизаторами и красителями идеологии?
Тезис Жижека основан на ощущении произошедшей в конце XX века своеобразной сериальной революции, первым вестником которой можно считать псевдо-готический сериал «Твин Пикс», снятый Дэвидом Линчем и быстро приобретший статус культового. Расследование загадочного убийства школьницы Лоры Палмер (вопрос «кто убил Лору Палмер?», который рефреном повторяется в каждой серии, может стать лозунгом этой революции), составляющее основную сюжетную линию отходит на второй план в данной оптике, т.к. на первом находится сама фигура Линча. Что побудило столь известного независимого американского режиссера, уже вписавшего свое имя в историю мирового кинематографа «Головой-ластиком», «Человеком-слоном», «Дикими сердцем» обратиться к жанру, считавшемуся несерьезным и даже недостойным объектива режиссеров-интеллектуалов?
Сериал действительно до 90-х вытеснялся на периферию интеллектуальной жизни как нечто низкое и недостойное внимания адептов высокого-вечного-прекрасного. Он был тем, что тот же Жижек назвал «постыдным удовольствием». И если высоколобый зритель и мог снизойти до этого телевизионного продукта, то получать свою дозу «постыдного удовольствия» нужно было лишь одним глазком, плотно зашторив окна своего сверх-Я. Произошедшая же сериальная революция была, с одной стороны, следствием углубившихся в ткань культуры процессов размывания демаркационной линии высокое/низкое и возникновения теории низких жанров. А с другой – следствием возрастания качества самих сериалов. Мексиканские мыльные оперы «Богатые тоже плачут» или «Просто Мария» уступают по сложности нарратива и затрагиваемой проблематике экзистенциальной драме «Во все тяжкие» или нео-нуару «Настоящего детектива».
Но все это совсем не означает, что сериал вдруг стал воплощением «духа времени», потому что он был им всегда. Возрастание доли авторского продукта (а теперь их снимают Гас Ван Сент, братья Коэны, Гильермо дель Торо и др.) означает лишь реанимацию репрессированного жанра. А акцент на дистопичности, ярким примером которой служит «Черное зеркало», не означает кардинальной смены самой формы сериала. Она по-прежнему держится на невозможности удовлетворения желания или по-другому – на желании большего удовлетворения. Именно это и заставляет нас смотреть сериалы запоем целыми сутками. Также не срабатывает и тезис о возрастании политизированности современных телесериалов, т.к. вытеснение политического измерения из ткани повествования, например, бразильских мыльных опер 70-80-х становится политическим уже в силу самого вытеснения. Идеологические фильтры снимают напряжение критики с помощью сказки, транслируемой десятилетиями, и именно поэтому она становятся сверх-политизированной.
А всё дело в том, что телесериал, скорее всего, отсылает к альтернативной традиции кино – Эдисону, который в пику Люмьерам предлагал аппараты индивидуального просмотра кино-аттракциона. Отсюда отсутствие эмоциональной дистанции, т.е. странная близость сериала телу, когда он фактически становится самой жизнью, пропущенной через канализацию культуры.
Автор иллюстраций: Анд Рей