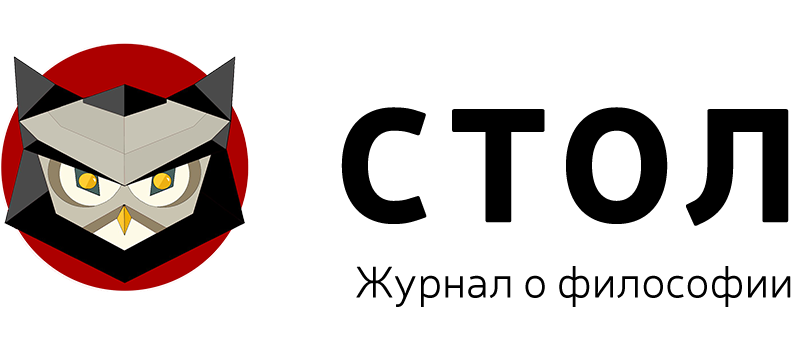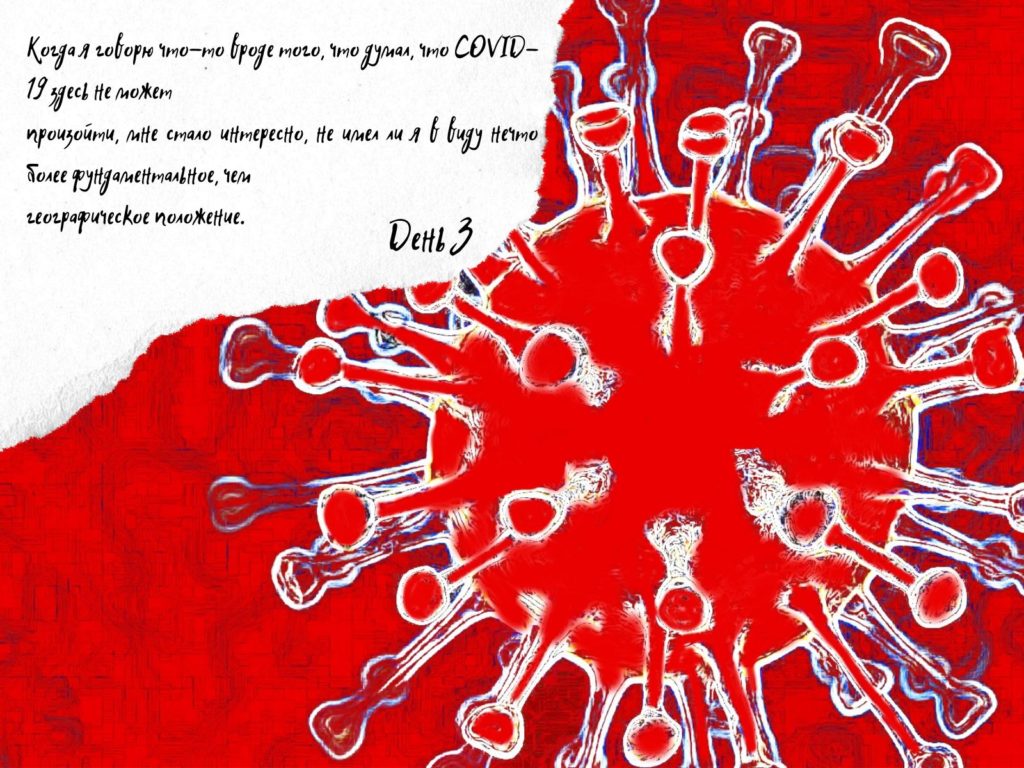Леви Брайант — профессор философии в колледже Коллин в столичном районе Даллас-Форт-Уэрт. Брайант также много писал о постструктурной и культурной теории, включая работы Жиля Делеза, Жака Лакана, Жака Рансьера.
Леви Брайант являлся членом движения объектно-ориентированной философии и ввёл термин объектно-ориентированная онтология в 2009 году для обозначения позиций, которые придерживаются тезиса о том, что существа состоят из вещей из объектно-ориентированной философии Грэма Хармана. Его собственная версия объектно-ориентированного мышления, называемая «онтикология», лишает человеческий опыт центральной позиции в метафизическом исследовании, считая, что объекты всегда разделены между двумя областями: виртуальностью и действительностью.
Наблюдая за развитием пандемии, я обнаруживаю, что могу думать только фрагментарно.
Словно я потерял то, что Кант назвал «трансцендентальным единством апперцепции», то формальное «я думаю», которое должно сопровождать все мои представления, и вместо этого стало серией разрозненных и несвязанных впечатлений без единства между ними.
В «Трансцендентальной дедукции» Кант сказал, что условия возможности опыта являются также условиями возможности объектов опыта.
В «Трансцендентальной диалектике» он пытается показать, как Идея мира в целом или тотальности является условием нашего опыта.
Если мое формальное «я думаю» разрушилось, значит ли это также, что мир раскололся, учитывая, что между ними существует параллелизм?
Поэтому я буду писать фрагментами, надеясь, что они помогут мне найти какое-то единство, какой-то логос под этими фрагментами, который позволит мне снова обрести смысл.
Мир заканчивается.
Я не говорю, что этот мир заканчивается, скорее, мир как понятие заканчивается.
Эта мысль промелькнула в моей голове прошлой ночью, но таилась там она неделями в некой бессознательной форме, я просто не осмеливался её произнести.
Четыре недели назад я вёл свой последний урок перед весенними каникулами.
Я имел смутное представление о COVID-19, то была некая абстракция, что-то нереальное.
Своего рода шутка между мной и моим партнёром.
Думаю, мне казалось, что подобные вещи не могут случиться здесь.
Это всегда случается где-то в другом месте.
В юности я был хайдеггерианцем.
Моя покойная бабушка подарила мне книгу «Бытие и время» на мое 18-летие.
Я открыл для себя философию двумя годами ранее.
Это было в те дни, когда не было ещё Интернета и больших книжных магазинов, так что такие книги было чрезвычайно трудно найти в подобном промышленном городке, где я вырос.
Я был очарован экзистенциализмом и много лет читал о Хайдеггере, но его работу нигде нельзя было отыскать.
Это был один из лучших подарков, которые мне когда-либо делали, — настоящий БиБи Ган Рэд Райдер1.
Я чувствовал, что мне подарили что-то редкое и драгоценное.
Когда я говорю, что не думал, что COVID-19 может случиться здесь, я задаюсь вопросом, не имел ли я в виду нечто более фундаментальное, чем географическое положение.
Я уверен, что имел в виду именно это, но я думаю, что за этим «здесь» скрывается идея Открытия.
«Мы должны анализировать Dasein2», — говорил Хайдеггер.
Dasein часто интерпретируется как «человеческое существование», но не может быть таковым, ведь даже сам человек проявляет себя в Dasein.
Dasein — это просвет, внутри которого вещи появляются или проявляются, своего рода свет перед светом.
Нет, Dasein — это не человеческое существование.
Лучше перевести это как «Бытие-там» или даже «Бытие-здесь» или просто как Открытое.
Я не хайдеггерский ученый, и меня не интересуют научные дискуссии относительно его суждений.
Когда я говорю об Открытом, я имею в виду способ, посредством которого мир, и мы сами, оказываемся здесь для нас.
Мир обладает неразрывностью, логоcом.
Сегодня похоже на вчера, а завтра будет похоже на сегодня.
Сказать, что подобные вещи не могут происходить здесь – разговор не о месте.
Или, скорее, если мы говорим о месте, мы говорим о собственно онтологическом месте, о логосе мира.
Опять же, о логосе мира как понятия, а не о логосе этого конкретного мира.
Подобные вещи не случаются здесь, потому что не может быть событий, которые фундаментально изменяют упорядоченность мира или Открытого.
По крайней мере, я так наивно думал.
Сантаяна говорил о вере животных.
Это было его опровержением скептицизма.
Он сказал, что у нас есть своего рода животная вера в реальность мира.
Это, в некотором смысле, Открытое.
Не нужно верить в открытое.
Это убеждение, предшествующее всем убеждениям.
Мир всегда открыт, и в мире существует непрерывность.
Я делаю то, что делаю сегодня, благодаря Открытому.
Я ощущаю животную веру, что завтра мир будет таким, каким был сегодня и вчера.
Мне даже не нужно задумываться об этом, мои повседневные дела всегда основывались на этом Открытом – или мире.
Что же было такого в том, что сказал Юм3?
Он говорил как диванный скептик, неспособный продемонстрировать, что будущее должно быть таким же, как прошлое.
Тем не менее, когда играл в бильярд, он придерживал свой скептицизм и доверялся законам физики.
Открытие – нечто вроде этого.
Никто не остаётся по-настоящему скептиком, едва покидает письменный стол и приступает к делам.
Но завтра уже нет, и его нет, потому что мир кончается.
Открытое закрывается.
Ирония в том, что множество поколений философов, воевавших с метафизикой присутствия, теперь оказываются подвешенными в вечном настоящем.
Я больше не понимаю мир, в котором я жил в последний день перед весенними каникулами.
В нашем доме мы называем это время «прежним временем».
Завтра больше нет.
Есть как раз то безразличное настоящее, где один день перетекает в другой и где каждый день такой же.
Потому нам следует видеть различие между одинаковым и непрерывным.
Непрерывность мира или Открытое парадоксальным образом позволяет изменениям происходить, а в теневой сфере одинаковости не может быть никаких изменений.
Все проекты приостановлены.
Мы в лимбе, словно в аэропорту из фильме Спилберга «Терминал».
Мы выпали из времени и потому пребываем совершенно между временами или Открытыми.
Везде происходят радикальные преобразования, ужасные преобразования, но время все же приостановлено.
Мы надеемся, что завтра вернется, как утреннее солнце, но не уверены, что это вообще когда-нибудь произойдёт. Мы беспокоимся, что вернувшееся завтра будет ужасным временем, в котором больше не стоит жить.
Наступит ли снова завтра?
Выражение «до времён» может показаться милым, но с философской точки зрения это неточно.
«До-времена» не были раньше времени, потому что время тогда существовало.
Существовало Открытое.
Нет, мы живем в до-времени или в том пограничном пространстве между мирами, где время приостановлено.
Это до-времена.
Все, что мы можем сделать, это ждать.
Мы стали тенями и привидениями того мира, или Открытого, которое существовало однажды.
Мы сами стали фрагментами потерянного времени, остатками, у которых когда-то было время, но которые теперь потеряли все время в силу того, что у них нет ничего, кроме времени.
Некоторые из нас просыпаются утром и покорно одеваются.
И даже тогда мы не заняты ничем, кроме ожидания, ведь теперь мы осколки потерянного времени.
Призрак — это воспоминание о месте, которое когда-то здесь было.
Мы все теперь призраки.
Мы призрачно бродим по миру, который, кажется, всё еще существует, но, тем не менее, этот мир ушел.
Мы отголоски некогда существовавшего мира.
Если я могу сказать, что мир кончается, значит, я должен иметь некоторое представление о том, что такое мир.
Ясно, что мир — это не земля, потому что я все еще хожу по земле и двигаюсь по ней.
Хайдеггер говорит, что мир — это совокупность инструментальных отношений, составляющих смысл или значение.
Знаменитый молот, например, имеет значение только в отношении гвоздей, скрепляемых досок, дома, который нужно построить, и земли, от которой этот дом укрывает нас.
Молот приобретает значение в отношении ряда проектов, объединяющих вещи на горизонте забот.
В детском саду мы пели песню под названием «Танец скелетов», чтобы узнать о частях тела.
Это звучало примерно так: «бедро соединяется с бедренной костью, а та соединяется с коленной костью …»
Вот так обстоит дело и с миром.
Все вещи нашего мира соотносятся в смысле наших проектов или важных дел, составляющих структуру смысла.
Пока мое оборудование работает, оно преимущественно остаётся незаметным для моего взгляда и сознания.
Оно целиком интегрировано в череду моих забот в отношении с миром.
Только когда какой-то элемент моего оборудования сломан или отсутствует, эта вещь начинает проявляться для меня вещью, и я начинаю осознавать тотальность взаимосвязей, лежащих в основе смысла.
Вещь переходит из состояния «подручного бытия» в «наличное бытие»4.
Мир сломан, поэтому вещи теперь наличествуют.
Здесь есть где развернуться.
Пару недель назад я пошел на рынок, чтобы запастись продуктами, которые понадобятся нашей семье в ближайшие недели, поскольку нам было приказано «оставаться дома в укрытии».
Поездка на рынок — теперь столкновение с собственной смертностью.
Теперь все в мире наличествует или сломано, потому что связи между вещами, которые в единой сети смыслов и отсылок позволяют вещам быть незаметными и подручными, нарушены.
Каждая скромная вещь в мире теперь угрожает.
Теперь я все замечаю.
Когда я прикасаюсь к продуктам питания, я задаюсь вопросом, нет ли на них вируса.
Вирус уже на моей руке?
Я передал его на руль моей машины, а затем на дверную ручку?
Я приношу продукты в свой дом.
Счетчики необходимо протереть спиртовыми салфетками.
Упаковку необходимо удалять.
Смерть подстерегает повсюду, и дружественные объекты мира теперь все – угроза.
Мой простое действие – поход на рынок – поставил под угрозу меня самого, мою семью и людей, которых я даже не знаю.
Все вещи мира более не союзники, а потенциальные агенты вируса.
Мы ждем от пяти до четырнадцати дней, гадая, вдруг мы уже заражены и просто симптомы пока не проявились.
Мы больше не киборги Харауэй5, Кларка или боги-протезы, ибо мир вещей, которые делали нашу жизнь возможной, разрушен.
Мир разбит.
Вернувшись с рынка, я обнаруживаю землю под миром.
Я открываю землю в первую очередь через вирус.
Чумы подразумевались как что-то, относящееся к прошлому истории.
Они принадлежат таким прошлым эпохам, как, например, Средним Векам или эпохе Возрождения.
Они подразумевались частью другого здесь, другого мира – по крайней мере для стран первого мира, которые так наслаждаются превосходством.
Сегодняшние чумы всегда считались бедствием менее развитых, бедных наций.
Несомненно, это внесло свой вклад для способности развитых стран пренебрегать этими людьми, игнорировать их.
Однако земля продолжает грохотать под этим миром, который, как мы думали, мы покорили посредством культуры.
Я открываю Землю повторно благодаря всем вещам, на которые мы полагаемся и которые делают возможными нашу жизнь, которые теперь стали навязчивыми, либо отсутствующими, когда это необходимо, либо присутствующими в своей угрожающей возможности как носители вируса.
Повсюду нехватка туалетной бумаги.
Лакан учил нас, что симптом структурирован как язык, что он говорит, что он выражает сообщение или серию означающих.
Странно, что из всех вещей именно туалетная бумага должна статься объектом накопления.
Как если бы, обнаружив на каком-то уровне ту землю, что грохочет под миром, что проявляет мир, мы бы выбрали вещь для отметки пересечения природы и культуры, чтобы нам удалось выразить то, что невыразимо словами.
Мы говорили через симптом.
Люди называют пандемию апокалипсисом.
Под этим, без сомнения, они подразумевают катастрофу или катаклизм огромной разрушительной силы.
Многие умрут, и экономики по всему миру рушатся.
Но в своем первоначальном значении «апокалипсис» означает «раскрывать» или «открывать».
Пандемия — это апокалипсис в обоих смыслах этого слова.
Я приму решение думать о пандемии как о событии, ужасном событии и постараюсь расшифровать то, что это событие раскрывает или открывает.
В «Логике смысла» Делёз преподносит этику события.
Он говорит, что мы должны быть достойны приключающихся с нами событий, которые он приравнивает к ранениям.
Если мир подходит к концу, если это событие или рана, тогда мы должны выковать концепции, достойные этого события, которые позволили бы времени начаться вновь, а солнцу взойти утром.
Мы должны стремиться собрать концепции, которые способствовали бы рождению другого мира.
Сеть смиренных людей, от которых мы все зависим, теперь оказалась раскрыта.
На протяжении десятилетий мы жили с мифом о зомби, утверждающим, что богатство создается теми, кто наверху.
Тем не менее, оказавшись брошенными в это царство теней, теряя работу и нуждаясь «оставаться дома в укрытии», мы лицезрим, как вся экономика останавливается, и приходим к пониманию того, что единственная причина, по которой мы продолжаем барахтаться – нужда в еде – зависит от тех, кто работает в этих смертоносных условиях.
Те, что были невидимы, как двигатель исправно работающей машины, теперь вышли на передний план.
Те, кого многие презирали, считая, что они не заслуживают прожиточного минимума, теперь оказываются важнее всего.
Если бы мы изучали экологию, мы бы знали это с самого начала.
Высший хищник — наименее важный элемент экосистемы.
То же и с миллиардерами.
Тем не менее, они тоже пострадали – по крайней мере те, что среди нас – и видят, что никуда от этого не убежишь.
Перефразируя Бадью, проблема политики и этики – не в различиях, а в том, как построить То же самое.
Онтологически, говорит он, нет ничего, кроме бесконечно разложимых множеств и нет единого.
Между мной и моим однояйцевым близнецом – если бы у меня был однояйцевый близнец – столько же различий, сколько между мной и китайцем на другом конце планеты.
Различие, утверждает Бадью, – это всего лишь тривиальный факт бытия.
Вопрос в том, как нам провести поперечную линию по этим различиям, чтобы построить пространство Одинакового.
Вирус — великий уравнитель.
Он отказывается быть где-либо еще.
Безразлично, богаты ли вы, бедны, принадлежите ли вы к эрзац-«среднему классу», черным, белым, мужчинам или женщинам.
Когда они остаются без работы и страдают от болезней, «средний класс» обнаруживает, что у них больше общего с бездомным, чем с миллиардером.
Пока у нас была работа и вследствие этого зарплата и здравоохранение, эта ненадежность и уязвимость, лежащие в основе нашего бытия, были невидимы.
Однако теперь, как часть без части у Рансьера, жалкая, стоящая до правительства и работодателя, обнаруживается, что все мы являемся частью без части, то есть подверженной риску и уязвимой.
Ужасная и жестокая несправедливость нашей экономической системы, гигантское неравенство власти и представительства раскрываются и обнажаются для всеобщего обозрения, и в этом становится возможным – пожалуй – построить Единое, или Народ.
Кризис всегда был Где-то Там и сроду случался с Кем-то Другим.
По этой причине легко оперировать с позиции мы – не Они.
Мы всегда были географически, пространственно локализованными, мы были географически «здесь», и это приносило великое успокоение: мы – не Они, те несчастливые, Где-то вон Там.
С вирусом раскрывается Планетарность.
Нет никакого Здесь, отличного от Где-то Там.
Подобно действию на расстоянии, «там» реверберирует и неизбежно переплетается со «здесь».
Мы обнаруживаем, что национальные государства всегда были символической фикцией, что существовала всегда лишь планета.
И с раскрытием Планетарного становится возможным сконструировать истинных Нас, которые не сконструированы диакритически против Них.
Теперь в лице незнакомца кроется возможность увидеть себя.
Тэтчер произнесла знаменитое «общества не существует, есть только отдельные люди и семьи».
Десятилетиями это было глобально правящей философией, смертельный вирус сам по себе.
Это то, что позволило заменить общество экономикой – пустырем, в котором единственными ценностями были эффективность, инструментальность и прибыль.
Мы какое-то время жили в постапокалиптическом мире, в самой настоящей пустыне.
Мы искалечили наше человечество во имя этих пустошных ценностей.
В конституции планетарных Нас мы заново открываем общество и нашу взаимозависимость с другими.
Возможно, теперь мы сможем услышать языки древних в слове «экономика».
Возможно, мы сможем искупить это пустошное слово и вспомнить, что оно происходит от ойкос или «дом», что это слово имеет общий корень с экологией, и что ойкос или «дом», то самое жилище, требует совершенно иного набора ценностей, чем пустошные ценности эффективности, инструментальности и прибыли.
Мы в кошмаре или просыпаемся от кошмара?
Как и у многих, мне снились сны, в которых я сплю.
Я видел сны во сне.
Так что, возможно, мы просыпаемся от кошмара внутри кошмара.
Сидя здесь, запертыми в своих домах, возможно, мы задаемся вопросом, что мы делали в том мире, который был раньше, и почему мы позволяли себе так жить и работать.
Это как если бы вирус вызвал вынужденную всеобщую забастовку, ацефальную всеобщую забастовку.
Интересно, сможем ли мы вернуться?
Уж точно не так, как раньше.
Подобно кризисам прошлого, дикая природа всегда рассматривалась как Где-то Там.
Дикие края рассматривались как противоположность городу, поселку или цивилизации.
Это была природа, противоположная культуре.
Таким образом, можно было думать о природе и материальности как о Других культуры.
Природа была Их культурой.
И действительно, целый ряд бинарных оппозиций, окружающих культуру/природу, форму/материю, разум/тело, интеллект/чувства, организован вокруг этого образа мыслей о дикой природе, как о месте Где-то Там.
Материальный термин всегда рассматривается как подчиненный и падший, в то время как интеллектуальный термин – как привилегированный.
Профессии оцениваются даже по иерархии близости к материальности, причем более всего ценятся те, что удалены от материальности.
Августин (или то был Аквинский?), к примеру, считает музыку более высоким искусством, чем живопись, так как она ближе к духу или чистой мысли.
Несомненно, наш дискомфорт, связанный с материальностью, связан с ее непокорностью, с тем, как она ускользает от нашего господства.
Те, кто работают с материалами, знают, что не всегда всё выходит точно как планировалось (по форме).
Как отмечает Адорно, материя – это концепция того, что не является концепцией.
Это то, что ускользает от аполлонической безмятежности формы.
Это, в свою очередь, связано с нашей конечностью и смертностью.
В материи мы сталкиваемся не только с ограничениями нашей силы — правда, как это ни парадоксально, также и с условиями нашей способности что-либо делать, — но и с нашей смертностью как телесных существ.
Сам способ мышления, образ мыслей кажется фантазией, которая мечтает сбежать из нашего тела и «зачешуиться» в материи.
Пожалуй, что-то из этого есть и в нашей эксплуатации земли.
Возможно, мы начали так безжалостно эксплуатировать землю не просто из-за жажды бесконечной прибыли, но от гнева против нашего собственного тела и морали.
Благодаря вирусу мы обнаруживаем, что дикая местность – это не Где-то Там, но скорее, что дикая местность – это все, что присутствует.
Неуправляемость и природа грохочут прямо здесь, в сердце города, в мегаполисе, посреди цивилизации и в диких краях.
Дикие края – в городе, а город – в диких краях.
И в этом открытии дикого края мы встречаемся с коррелятом планетарного, который призывает переосмыслить наше отношение к материальности и собственной телесности.
3 апреля 2020
Научный редактор текста: Клюев А.А.
Иллюстрации: FireAnn
Примечания
- Red Ryder BB Gun – любительское пневморужьё, впервые произведенное весной 1940 года компанией Daisy Outdoor Products в честь ковбойского персонажа комиксов Рэда Райдера (созданного в 1938 году, который появлялся во многих фильмах между 1940 и 1950 годами и на телевидении в 1956 году). Всё еще производится, хотя комикс был отменен в 1963 году.
- Да́зайн — немецкое философское понятие, обычно ассоциируемое с учением Мартина Хайдеггера. «Дазайн» дословно переводится как «вот-бытие», «здесь-бытие». Обычный его философский и обиходный смысл — «существование», «экзистенция».
- Шотландский философ, представитель эмпиризма, психологического атомизма, номинализма и скептицизма.
- Хайдеггер определяет «подручное» и «наличное» бытие отличными от Dasein (которое существует как самостоятельное бытие; его собственное Бытие является предметом спора, по мере того, как Dasein проявляется в мире). Для Хайдеггера наличное означает нечто данное теоретическому взгляду. Подручное бытие – например, инструмент – это то, что вписывается в значимую сеть целей и функций, ставшее частью практического мира. Пример: компьютерная мышь. Как только человек овладевает навыками работы с ней, мышь в некоторым смысле «исчезает» из его сознательного внимания. Человек посредством мыши как продолжением руки выбирает объекты, работает с меню, перемещается по страницам и т.д. Мышь, по Хайдеггеру, готова к работе, вписывается в значимую сеть действий, целей и функций. Когда мышь перестаёт функционировать, например, из-за сбоя соединения с компьютером, человеческое восприятие мыши меняется. Она «вновь появляется» для сознательного внимания человека. Он начинает осознавать, что мышь опосредует его действия. Человек переходит от ощущения мгновенности и бесперебойной связи к ощущению среды и сбоя связи. Мышь становится источником проблемы, которую человек пытается решить. Когда человек взаимодействует с мышью таким образом, воспринимая её как объект деятельности, как объект возражающий – мышь переходит в наличное бытие.
- Почётный профессор факультета феминистских исследований и факультета истории сознания Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Харауэй считают одной из основоположниц киберфеминизма и «нового материализма», центральной фигурой в современной эпистемологии, феминистских исследованиях науки и технологий и постгуманизме.