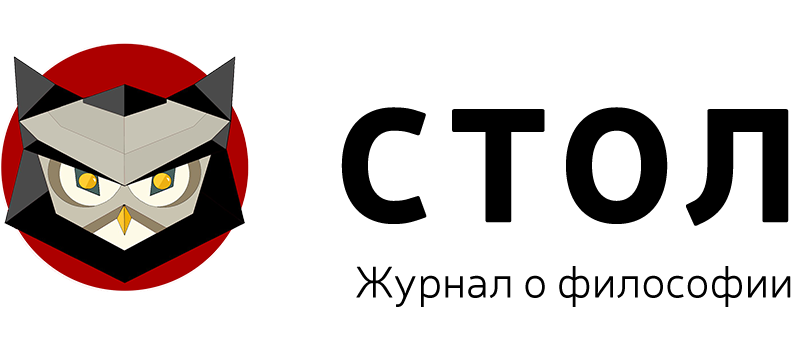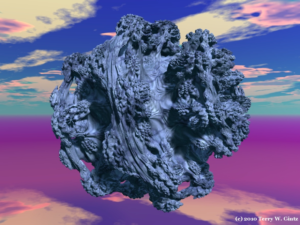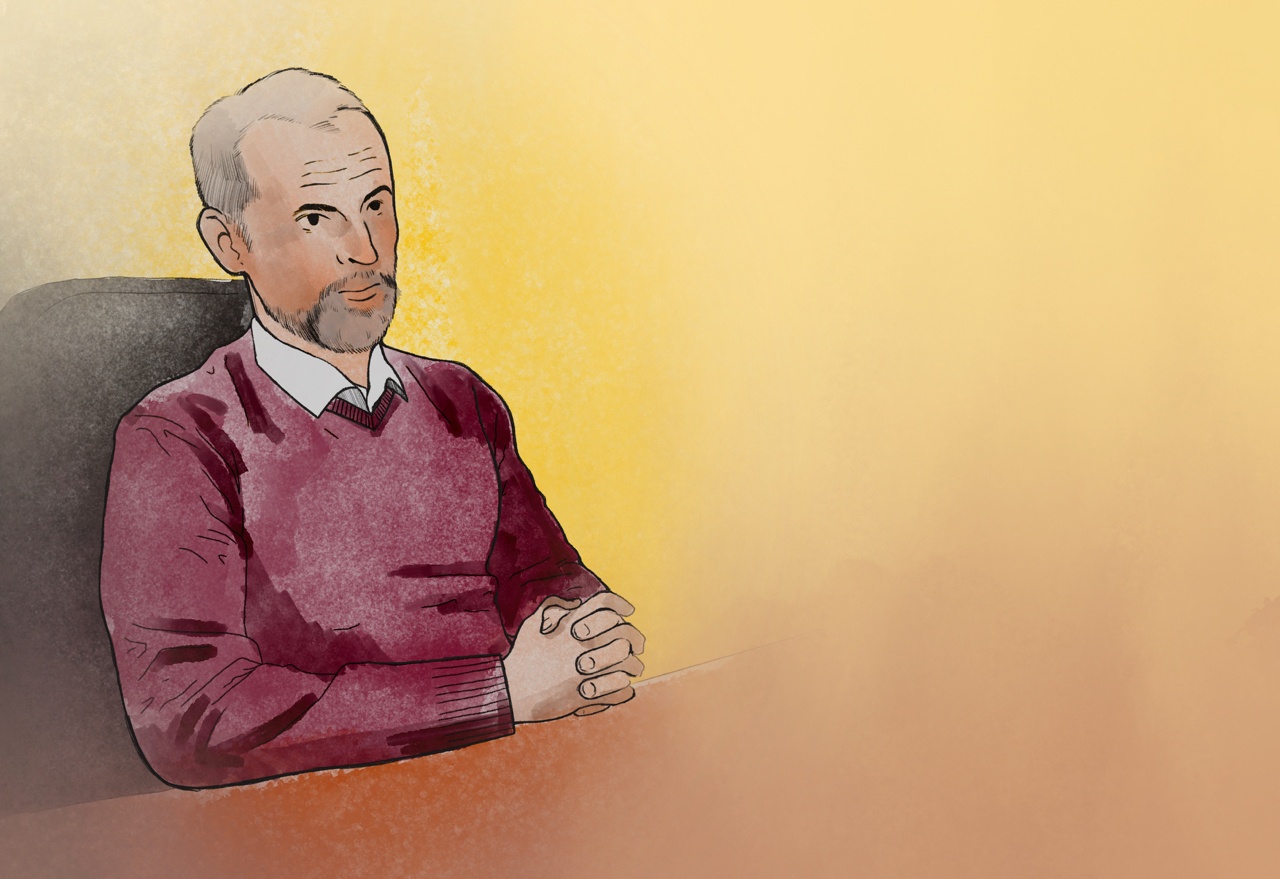Вашему вниманию представлен перевод блоговой записи американского философа Стивена Шавиро «Симондон о технике».
Предлогом к данной заметке послужит всматривание в ближайшее от нас окружение. Не трудным будет для нас отметить, что сплошь да рядом устройства, куда бы мы не бросили взгляд. Также, очевидным является их использование(равно как и наличность), которое стоит на службе рыночной (также субъект/объектной) логики, в момент которого основной перцептивной фиксацией является функционирование, стоящее за устройством. Лишь оно интересует нас и служит указанием на особого рода отношение — утилитаризм. Функционирование не предполагает знание о самом техническом устройстве. Знание выступает в качестве принципа использования той или иной полезности, которая заключается в техническом объекте. Данный факт выступает основанием для технического отчуждения, которое базируется на не знании, с одной стороны, технической организации устройства (механических процессов), с другой, генезиса технического устройства.
(…)
Поверхностную детализацию вопроса о техническом объекте, равно как и ответа, развертывает Стивен Шавиро, тезисно излагая фрагменты философии техники Ж. Симондона.
«Машина остаётся одной из тёмных зон нашей цивилизации на всех социальных уровнях».

Ж. Симондон выступает против банального представления, которое противопоставляет технику и природу, которое понимает технику как инструмент или механизм для контроля и манипуляции природой. Он утверждает, что техника не может быть сведена к утилитарной функции, так как она больше, чем просто взятый в отдельности инструмент, использованный для частных целей. Техника может пониматься: как ансамбль (единое); как процесс изобретения.
Техника существует и эволюционирует по своим законам, отличным от биологических.
Как ансамбль техника выступает более чем взятый в отдельности инструмент или машина; она при этом подразумевает отношения между инструментами и машинами, собой и людьми, так же между людьми и окружающей их средой, материалами, с которыми они взаимодействуют.
Некая технология, в простейшем своем виде, принимает форму единичного инструмента – например, молоток – используется конкретным человеком, для конкретных задач. В этом случае техника не может быть изолирована. Инструменты не существуют в изоляции; они связаны во всех такого рода способах. Они связаны, во-первых, задачами, которые они выполняют, которые все больше и больше усложняются, и испытывают необходимость в координации через техническую сферу.
Помимо этого, инструменты связаны концептуальными схемами, которые образуют их: эти схемы могут быть применены в различных контекстах, в различных трудах, поэтому техника подвижна и переносима («детерриториализованный» в словаре Делеза, на которого оказал влияние Ж. Симондон). Это также говорит о том, что техника выходит за пределы любого узкого утилитарного замысла.

По мере развития, техника открывает и производит новые отношения между людьми и вещами, людьми и людьми, вещами и вещами. Техника есть сеть отношений: это отнюдь не отчуждение от природы, а посредничество между человеком и природой. Она нивелирует дуализм, который подразумевает такое разделение, вовлекая сети человеческого и природного существа, во все виды тонких, едва различимых отношений обратной связи и взаимной зависимости.
Будучи развернутой субъектом для контроля природы и приуменьшенной до статуса объекта, техника снимает субъект/объектную полярность: она всегда находится между полями, она гарантирует, что ни один человеческий субъект не свободен от влияния природного и физического мира, в то время как ни «природа», ни «вещественность» никогда не были абсолютно пассивными или просто объектами. Каждый «объект» имеет определенную степень субъективности, и каждый «субъект» — определенную степень «вещественности»; техника есть процесс или связующее звено, которое делает невозможным идеалистический гипостасис явного субъекта, обращенного к неодушевленным объектам.
«Необходимо, чтобы генезис технического объекта стал действительной частью его существования, и чтобы отношение человека к техническому объекту включало в себя внимание к его непрекращающемуся генезису».
Техника также нуждается в расширении знания. Это не просто представление о технических знаниях, это предпосылка для того, чтобы считаться техническим знанием: одна из причин образования технического знания ситуация, когда техника не работает, когда она перестает отвечать утилитаристкой функции. Даже в своих неисправностях техника продолжает «работать».
Другой путь: техника представляет собой процесс изобретения. Это не непрерывный процесс, а не конечный продукт. Инструменты не просто пассивно применяются, а переконфигурируются, повторно переизобретаюся, расширяются и мутируют в процессе использования. Ж. Симондон отмечает, что отчуждение не является следствием техники самой по себе; это также не только результат эксплуатации в марксистском смысле, факт того, что рабочие не обладают машиной, которой осуществляют свою деятельность (это, безусловно, играет значительную роль). Более значимым, является то, что рабочие не способны принять активное участие в конструировании, изобретении, переконфигурации своих машин, но только предполагаются их пассивными операторами.
В истинно технологической культуре, где изобретение и эксплуатация будут объединены, отчуждение снимется.